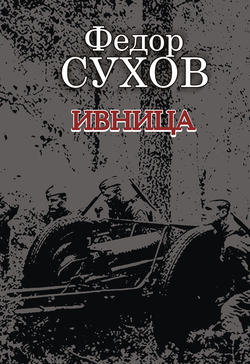Читать книгу Ивница - Федор Сухов - Страница 9
Часть первая
7
ОглавлениеЗакатывалось солнце, но я не смотрел на закат, смотрел в самого себя, расставаясь с тем немногим, что осталось во мне своего, личного, гасил все еще играющие во мне зарницы, не давал красоваться растопыренно лепестящимся ромашкам, старался приглушить напоминающий наливные яблоки, расхолаживающий запах. Пусть не слезится в мою душу пришибленная разрывами мин и снарядов, все чего-то ждущая перестоявшая рожь.
Рванулся сзади меня, грохнул батареей пристрелянных гаубиц встревоженный, как будто в чем-то виноватый лес, он подхватил меня, и я двинулся к окопам своего взвода, а когда придвинулся, решил глянуть на Тютюнника, на его напарника Наурбиева.
– Как, Наурбиев, дела?
Кавказский человек, сын солнечной Осетии, он плохо говорил по-русски, не освоился с десятком простых, обиходных слов, зато хорошо освоился со своим оружием, всегда держал в чистоте самозарядную винтовку (СВТ), а кинжальный штык от нее хранил пуще выдаваемой по вечерам хлебной пайки.
– Как дела? Нет дела…
– А ты вчерашних немцев не напугался?
Наурбиев понял, на что я намекнул, посмотрел на прилегающее к окопу поле и, хитровато улыбаясь, проговорил:
– Рожь есть… Немец нет… Старший сержант есть… Немец нет…
А немцы были, они открыли ответный огонь на огонь нашей гаубичной батареи. Снаряды ложились за нашими спинами на обочине Задонского шоссе и взрывались, освещая идущие на Воронеж, утробно воюющие, крытые брезентом грузовики. Это был обычный артобстрел, не таящий особой опасности для тех, кто сидел по окопам, но грузовики, люди, которые в них сидели, они, я не мог понять, как они вживе и целости (как мне думалось) выкатывались из вприпрыжку бегающего огня. По всей вероятности, огонь велся из пушек среднего калибра. Тайно я желал, ну хотя бы один снаряд разорвался поблизости, метрах в двадцати от моих глинисто-желтых, как печные трубы, на скорую руку сшитых сапог. Надо же наконец испытать себя, показать и Тютюннику, и Наурбиеву что их командир взвода не из робкого десятка. Разорвался снаряд, а он и глазом не моргнул, по каске стучат осколки, а он сидит себе на бруствере и мнет в руках ржаной, надышавшийся ночными сполохами, полновесно налитой колос.
На этот раз так и не стукнул ни один осколок по моей каске, и она мне показалась лишней обузой. Я снял ее, положил на колени. По непокрытой голове, по густо отросшим волосам прошелся отставший от мимо пролетавших снарядов разогретый их утробно-жарким дыханием, все еще куда-то торопящийся ветерок. Я не видел, как взошла, встала удобной мишенью луна. Теперь она не только светила, но и просвечивала каждую капельку повсеместно наклюнувшейся росы. Да и люди, тот же Тютюнник, тот же Наурбиев, стали видны не только внешне, но и изнутри. Может, поэтому я решил более пристально всмотреться в Селиванчика. Яично выпуклые белки давно знакомых мне зеленоватых глаз стояли недвижимо, явный призрак страдающего бессонницей, жестоко измученного изнурительной, неотступно преследующей, прилипшей к черепной коробке навязчивой, одной и той же мыслью. Покорные, лишенные мускульной упругости движения рук и резко обозначенные папорты плеч, каска с ремешком на подбородке, подсумок на незатянутом ремне. Селиванчик придерживает пряжку ремня, наверное, боится за сохранность лежащих в подсумке патронов. Рядом второй номер, глуховатый уралец Симонов, он уже привык к странному поведению своего напарника. Одно беспокоит: младший сержант стал отказываться от супа и вермишели, Симонов удивлен такой причудой, он показал котелок, в котором стыл недоеденный ужин.
– Чем же ты, Селиванчик, питаешься?
Селиванчик молчал, как будто не слышал моего вопроса.
– Он, товарищ лейтенант, – глуховатый уралец услышал мой вопрос, – он колосья рвет, зернышки из них выклевывает…
Действительно, возле Селиванчика лежала груда колосьев, колосья торчали и из карманов нависших на колени хлопчатобумажных шаровар. Хотелось узнать, куда девает Селиванчик ежевечерне выдаваемую пайку хлеба?
– Я жаворонков кормлю.
– Каких жаворонков?
– Вон они крылышками плещутся, – Селиванчик глянул тяжело поднятыми глазами на небо, на едва заметные в лунном свете, одиноко трепещущие звезды.
– Ночью они на небе, а как взойдет солнце, на землю садятся, птенчиков выводят.
Напрасно я старался погасить в себе играющие зарницы, они снова заполыхали во мне, снова я услышал яблочный запах ромашки. И, как это ни странно, я опять стал прислушиваться к матерчатому шелесту лунного света, стал яснее видеть в нем разные травы, одного только не мог уяснить: светилась роса или фосфорно тлели те самые светляки, что осыпают низко поникшую траву, что прячутся от лика не только полной, но и идущей на ущерб луны.
– Стой! Кто идет?
Я вздрогнул, вздрогнул и Селиванчик. Что касается Симонова, он и ухом не повел, он дожевывал последние крохи от выданной на завтрашний день хлебной пайки.
На какое-то время погасли светляки, вместо них засветилось лицо младшего лейтенанта Ваняхина.
– Сколько танков подбили? – спросил Ваняхин у стоящего на посту совсем юного парнишки, уроженца Воронежский области Загоруйко.
Загоруйко молчал, и не потому, что на посту не разрешается разговаривать, просто нечего было сказать, он еще ни разу не выстрелил из противотанкового ружья. В тылу он почему-то все время дневалил, на боевых стрельбах не был, а на фронте… Тоже приходится нести караульную службу.
Младший лейтенант Ваняхин, я обрадовался его появлению, он все в той же, парусом свисающей с широких, немного приподнятых плеч, захомутованной под подбородком плащ-палатке. На груди автомат, в окошечки его кожуха заглядывала луна, липла она и к рукоятке затвора.
Сколько, трое или четверо суток прошло, как мы приблизились к передовой? Нет, больше, суток семь, восемь. Впрочем, никто и не считал эти сутки. Да и что считать, среди нас не было такого человека, который думал бы дожить до конца… Хотел было сказать «до конца войны», но конца войны не было видно. Хорошо бы увидеть тот день и час, когда и на нашей улице будет праздник… Я не знаю, что бы со мной сталось, ежели бы мы с ходу вступили в бой, возможно, меня ранило б или убило. Но так случилось: на мою долю выпало, может, вымоленное моей матерью счастье – я живой, невредимый. Правда, я попытался расстаться с играющими во мне зарницами. Не расстался. Они еще больнее заполыхали во мне, освещая не только ржаное поле, но и все необозримо великое пространство, именуемое неожиданно воскресшим словом – Россия.
Роса, рожь, синь, сила, наверно, из этих слов сложилось слово – Россия.
Ладно, не надо лишнего звона, а то можно разбудить Тютюнника, он уже не маячит над своим окопом, а раз не маячит, значит, спит, спочивает, подобрав под себя длинные, туго обвитые обмотками ноги. Откуда ни возьмись камнем свалилось какое-то ночное существо, я вздрогнул и пригнулся.
– Не бойся, это летучая мышь, – стал успокаивать меня зорко всматривающийся в шелестящую тишину ночи, уже ко всему привыкший Ваняхин.
А я и не боялся, но почему пригнулся, сам не мог понять, скорее всего, от произвольно действующего инстинкта самосохранения.
Летучая мышь, что ей нужно было в изрытом окопами поле? Летала бы где-нибудь в тылу, по ночной притихшей улице, ну хотя бы моего села и, высмотрев белый платок моей первой, единственной любви, шарахнулись бы на него, чтоб он не маячил, не соблазнял чьих-то посторонних глаз…
– Я к тебе за Селиванчиком пришел, – поспешил сообщить причину своего появления младший лейтенант, – решено перевести его ко мне, в мой взвод.
– Кто решил?
– Командир роты.
Мне почему-то стало жалко Селиванчика, я все еще надеялся, что он войдет в себя, к тому же мне не хотелось, чтоб он был на глазах командира роты, – останутся некормленными слетающие с ночного неба жаворонки…
К моему немалому удивлению, Селиванчик вполне разумно воспринял свой перевод в другой взвод, стал собираться, нашарил вещмешок, хотел было впрягчись в него, но не впрягся, лямки мешка были до предела укороченными. Удлинили. Вроде все стало на свое место. Не забыл младший сержант взять и винтовку, но попрощаться ни с нем не попрощался. Даже Симонову, своему напарнику, ничего не сказал. Я решил проводить ссутуленного, жестоко ушибленного парня.
Сапоги мои, хоть и походили по своему цвету, по своим голенищам на печные трубы, но они, как решето, пропускали даже росу. Я слышал, как влажнели мои ноги, когда ступил на обочину дороги, на ромашки, на хрупкие блюдца придорожного вьюнка. Я почему-то думал, что Ваняхин сообщит какую-то новость, но он молчал. Заговорил Селиванчик.
– Товарищ младший лейтенант, я патрон потерял…
– Найдется твой патрон.
И опять тишина. Слышно только шмыганье сапог да селиванчиковых выгнутых, как лыжи, английских ботинок. Я вспомнил об убитом связисте, он лежал где-то совсем рядом. Ваняхин остановился, опустил голову, потом, осветив меня задумчиво-грустной улыбкой, проговорил:
– Знаешь что, я дарю тебе свой комсоставский ремень. Хочется, чтоб ты был похож на настоящего командира.
Слова эти были произнесены с незамечаемой ранее серьезностью, с какой-то затаенной озабоченностью обо мне как о командире с неудачно складывающейся репутацией.
Ваняхин снял блеснувший звездной пряжкой ремень и перекинутую через плечо портупею. Я снял свой ремень и передал его несказанно обрадовавшему меня товарищу. Ведь я был очень молод, и мне, как молодому коню, хотелось поносить блестящую сбрую.
Крепко пожали друг другу руки.
А Селиванчик тоже снял свой ремень, но не знал, куда его деть.
Возвратясь к своему окопу, я оглянулся, увидел ваняхинский затылок, а над ним стоймя стоящую, как бы распятую на незримом кресте летучую мышь.