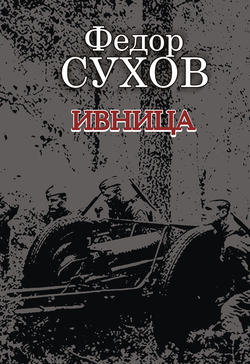Читать книгу Ивница - Федор Сухов - Страница 5
Часть первая
3
Оглавление«Да ты что боишься? Все равно три секунды осталось жить», – говорил мне младший лейтенант, когда на меня был брошен остолбеняющий взгляд капитана Банюка. Я не думал, что мне три секунды осталось жить, поэтому боялся. И только тогда, когда мне было приказано забросить набитый патронной лентой чемодан, я отошел, стал готовить себя к встрече с немецкими танками. Еще под Саратовом, при получении противотанковых ружей, расчеты моего взвода дали клятвенное обязательство: подбить в первом же бою по два, по три танка.
– Родина дала нам такое оружие, которое способно поразить любую фашистскую броню, – говорил комиссар батальона старший политрук Салахутдинов.
И странное дело: мы уже на фронте, я уже узнал, кто и откуда стреляет, но танков все еще не видно. Тихо, так тихо, что слышно, как стучит собственное сердце. Можно подумать, что немцы и вправду выдохлись, как об этом не раз писалось в газетах.
Чистое, как будто не тронутое войной небо походило на сплошное поле цветущего – сине и нежно – хорошо прополотого льна. Такое небо обычно бывает перед жнитвом, когда надолго устанавливается жаркая и безветренная погода. Я снял каску, хотелось посмотреть, оставил ли какой след стукнувший по ее железу осколок? Следа особого не осталось, так, маленькая царапина.
– Товарищ лейтенант, бачте, що це таке? – пробалакал наблюдавший за воздухом рядовой Тютюнник.
Я недоуменно пожал плечами и не знал, что сказать. В цветущем льняной синевой небе появилось странное чудище с соминой головой и с туловищем, похожим на продолговатый сруб. Только после я узнал, что это чудище зовут «рамой».
«Рама», накренясь, развернулась над нашими окопами, а когда она улетела, льняная синева залепестилась листками разноцветной бумаги. Мне показалось, что я уже попал, как говорил старший политрук Салахутдинов, в ловко расставленные сети вражеской пропаганды. И тут-то, как назло, от легкого дуновения ветерка один листок упал в окоп, стал таращиться крупно напечатанными и, что удивительно, с тщательным соблюдением всех правил русской грамматики черно и жирно подчеркнутыми словами. Я никогда не сомневался в правдивости печатного слова, потому что родился в селе, в котором даже сказки, и те казались правдивыми. Я своими глазами видел колдуна, видел, как он на свадьбе напустил в избу воды, как он глотал черепки от разбитых горшков, лет до двенадцати верил в нечистую силу. Эта нечистая сила и подтолкнула меня, я прочитал шелестящую, как береста, поднятую со дна окопа соблазнительную бумажку. Она ошарашила меня чудовищной ложью: разве я мог поверить, что сын Сталина Яков сдался в плен?! А разве можно поверить, что Сталин издал такой приказ, по которому разрешалось стрелять по своим?.. Я даже не посчитал нужным порвать неумело составленную фальшивку, использовал ее при известной нужде. Закатывалось посыпанное пеплом еще одного сгоревшего дня, перехваченное облачком, как бы раздвоенное и немного удлиненное солнце. Оно закатывалось там, где были немцы, за взбугрившимися желваками донского правобережья. По всей вероятности, с него хорошо просматривались наши позиции, и я боялся обнаружить себя, долго не вылазил из своего окопчика, вылез, когда закатилось солнце, когда взошла и четко обозначилась луна. Но – странное дело – той ночи, какой я так долго ждал, все еще не было. Полная луна стояла низко, как бы дожидалась своего часа, не блистая коленкором четко настороженного света.
А мне хотелось повидаться с младшим лейтенантом Ваняхиным, напомнить ему, что он ошибся, когда говорил, что три секунды осталось жить. Почти сутки прошли, а все вроде живы и невредимы, нет ни убитых, ни раненых. Да и старший политрук Салахутдинов не прав, по его словам, мы должны уже быть героями, стоять среди кладбища подбитых нами танков, а мы еще ни одного немца не видели, ни живого, ни мертвого. Правда, я все время ощущаю трупный, с солодовой приторностью запах. Возможно, он исходит от поваленной, втоптанной в землю ржи. Слышна горечь полыни, но тимьяна уже не слышно, может быть, он пахнет только по утрам, на восходе солнца. Пожалуй, никогда в жизни (а жизнь моя входила в двадцатое лето) я не был так чуток ко всему: и к запаху, и к свету, и к тому сумраку, что надвигался с донского правобережья. Раньше я как-то не замечал молчаливый, тихий уход дневного света, потерю его в самом себе, а тут я вижу, да и не только вижу, но и слышу, как округлое колено луны поднимает последний отблеск печально догорающего заката. И кажется мне: шелестят не колосья ржи, матерчато шелестит лунный, саваном стелющийся свет.
– Второй взвод, собирай котелки за ужином!
За одиннадцать месяцев моей службы в армии, в запасном полку, в училище едва ли наберется десяток сытно прошедших дней. Все время хотелось есть, а здесь, на фронте, есть почему-то не хотелось. Наверно, потому, что я всем своим существом ожидал предстоящего боя с танками, но когда дохнуло отварной вермишелью, мое прилипшее к спине брюхо по-волчьи взвыло, и я сам не заметил, как опорожнил принесенный Тютюнником плоскодонный котелок.
После ужина я поднялся на ноги, выпрямился во весь рост, но все еще побаивался, как бы не обнаружить себя – луна светила так, что была видна каждая встающая на дыбы травинка. Правда, я не видел лица Тютюнника, видел только белки его тяжелых, по-конски неподвижных глаз да зубы, мелкие и редкие, как семечки подсолнечника с едва облупившейся шелухой. А когда я подошел к Селиванчику, не увидел и его лица, вернее, не увидел той белизны, которая свойственна человеческому облику. Все черно, все в подтеках, как поле после только что схлынувшего дождя.
– Товарищ лейтенант, вас ругали за меня? – тихим, убитым голосом спросил все еще не вошедший в себя, сразу потупившийся Селиванчик.
– Нет, не ругали…
– Вы неправду говорите.
– А ты знаешь, что мы на фронте?
– Знаю.
– А ты знаешь, что твой патрон нашелся?
– Кто его нашел?
– Я нашел.
Я вынул из кармана бронебойный, с черной головкой патрон и протянул его младшему сержанту.
– Это не мой, у меня не такой был.
Симуляция? Нет, не прав капитан Банюк, уж больно доверчиво, неподдельно-искренне не выговаривал, а как-то изнутри выдыхал каждое слово пришибленный потерянным патроном покладистый, всегда готовый выполнить любое приказание младший сержант Селиванчик. С ним действительно что-то стряслось, и я решил доложить об этом командиру роты, он примет какое-то решение, скажет, как быть с потерявшим себя парнем. К тому же я смогу повидать младшего лейтенанта Ваняхина, его взвод окопался невдалеке от ротного командного пункта.
Оставив за себя своего помощника старшего сержанта Миронова, я ступил на заросшую сплошными ромашками дорогу и подался к отдаленному мыску салатно зеленеющего под луной, таинственно притихшего леса. По обеим сторонам дороги тепло дышала поникшая, с едва видными рожками поспевающих зерен недвижимая рожь. Но вскоре я очутился как бы на пепелище – поле чернело следами недавно разорвавшихся мин и снарядов. Случайно уцелевшие колосья стояли понуро, как стоят над покойником, их оглушило взрывными волнами. Все это меня не так уж пугало, я готов был к более страшному, но более страшное лежало в каких-то десяти шагах от хищно раскогтившихся воронок, оно лежало в красноармейской, перехваченной брезентовым ремнем хлопчатобумажной гимнастерке. Я увидел эту гимнастерку, увидел катушку с намотанным на нее проводом. Увидел мальчишечье, без единой морщинки лицо. Какая-то неведомая сила остановила меня. Я понимал, что предо мной лежит прихваченный артналетом недавно убитый связист. И все-таки на меня нашла какая-то блазнь, я почему-то думал, что убитое мальчишечье лицо не было убито, оно самозабвенно отдыхало, освежало себя набегающей от Дона прохладой. А еще и луна, она вышла на середину неба, полная, зеркально закругленная. Ее свет ложился на спящее лицо, давая возможность увидеть полузакрытые губы и широко открытые, как будто чем-то удивленные глаза. Впоследствии мне очень много приходилось видеть убитых наповал окопных побратимов, но я не видел, по крайней мере, не запомнил их убитых глаз. Связист смотрел на меня широко открытыми глазами, и опять мне показалось, что убитые глаза не убиты, они только что очнулись от короткого забытья…
На бескровную холстину мальчишечьего лица наползли два крупных, как желуди, зеленых жука. Один перевалился через верхнюю губу и был хорошо заметен вблизи черемуховой белизны открытых зубов. Другой тыкался в ноздри.
Я отошел, мне сделалось страшно.
Нарвал лопушистых, смоченных росою ромашек, прикрыл ими не дотянувшего своей катушки, лежащего обочь дороги связиста…
Командир роты без особого внимания выслушал мое сообщение о странном поведении Селиванчика.
– Патрон, говоришь, все ищет. Не беспокойся, пойдут немцы, патрон этот сразу найдется.
Лейтенант Шульгин, он и здесь, на опушке леса, недалеко от передовой весь вычищен и подтянут.
Неживой, какой-то потусторонний лунный свет потихоньку сбывал, заметно пробивался свет восходящего дня. В этом свете рельефней обозначились чисто – до синевы – выбритые скулы лейтенанта. Было видно, как в расширенных ноздрях капризно вздернутого носа что-то дремуче темнело, как будто в них заползли мохнатые шмели.
– Что еще скажешь? – обратился ко мне, видать, чем-то недовольный командир роты. – Может, Тютюнник ружье потерял?
– Ружья все целы.
– Все готовы к бою?
– Готовы, товарищ лейтенант!
Из высокой, кое-где полегшей ржи, как из озера, как из воды, выплыл младший лейтенант Ваняхин. С его высоких плеч парусно спускалась темная, мокрая от росы плащ-палатка, а на груди, круглясь вороненым диском, покоился автомат. Младший лейтенант остановился как раз напротив меня и, обласкав мою душу светло смотрящими глазами, спросил:
– Ну как ты там? Привык?
– Понемногу привыкаю.
– Эх, в Новоузенск бы сейчас, – Ваняхии глянул на небо, на потерявшую свой свет луну, – вот таким бы месяцем закатиться! Я тебе не рассказывал, какая там у меня история произошла?
– Нет, не рассказывал.
– А о колодце рассказывал?
– О каком колодце?
– Помнишь, когда мы под Грязями стояли, помнишь, когда наш эшелон чуть не попал в чертово пекло… Тогда я по собственной инициативе решил принять меры предосторожности, стал искать надежное убежище. В открытом поле, сам понимаешь, найти его не так-то легко. А я нашел.
– Залез в колодезь?
– Да, залез в колодец. Он за железнодорожной будкой был вырыт еще при царе Горохе. Сруб весь сгнил. Бадья вся изржавела. И все же я не побрезговал этой бадьей, встал в нее ногами и опустился к невидной – темно же было – хорошо, что неглубокой воде. С эшелона, с платформы я не видел ни одной звезды, а из колодца увидел такие планеты, что они до сих пор стоят в моих глазах. И вдруг произошло какое-то затмение. Ничего не вижу. Слышу только позвякивание колодезной цепи. Думаю: кто-то пришел за водой. Терпеливо жду, что будет дальше. Бадью не выкачивают, значит, вода никому не понадобилась. И тогда-то что-то стало колотиться по моей голове, по моей каске. Поднимаю руку, нащупываю какой-то сапог. Догадываюсь: нашелся человек, что решил последовать моему примеру. Стараюсь узнать, что за человек? Может, лейтенант Русавец? Он как-то в Новоузенске попал в колодец. По своей пушкинской задумчивости. Кричу: «Русавец! Русавец!» Нет, не Русавец, он бы откликнулся. Раз так, укрепляюсь на занимаемых позициях, вгрызаюсь ногами в гнилой сруб, а руками хватаюсь за повисшие над моей головой сапоги, тяну их к себе. Сапоги вырываются, стараются подняться, но не тут-то было, хватка у меня крепкая…
Я невольно глянул на руки младшего лейтенанта, они походили на полупудовые гири. Да, такие руки вряд ли кого отпустят подобру-поздорову.
– И ты можешь представить, кто решил последовать моему примеру?
– Кто?
– Старший политрук Салахутдинов. Узнав меня по голосу, он спросил: «Ваняхин, это ты?» – «Я, товарищ комиссар». – «Шайтан бы тебя взял, напугал меня». – «Не бойся, товарищ комиссар, я не бомба, не разорвусь». Такой разговор произошел у нас, когда мы оба укрепились на занимаемых рубежах.
Не все в рассказе мне показалось правдоподобным. Ну ладно, сам Ваняхин залез в колодезь, но я не мог представить, чтоб в тот же самый колодезь залез комиссар батальона.
– Чудачок! Я в сорок первом в уборной выкупался вместе с командиром полка…
Мысок леса каждой листвинкой тянулся к свету восходящего дня, он медовел еще не успевшей отцвесть, не тронутой железными осколками липой. Ваняхин потянул носом, мне подумалось, что он услышал запах липового цвета, оказывается, нет, младший лейтенант авторитетно проговорил:
– Ладаном пахнет. И – мертвецами.
Действительно, от леса всегда тянет ладаном, больше всего чадят этим благовонием осины, но осин поблизости не было видно, они почему-то забились в глубь какого-нибудь урочища, дабы скрыть свою дрожь от глаз командира второй роты лейтенанта Шульгина.
Ваняхин опять потянул носом, опять сказал, что пахнет мертвецами.
И тогда-то я вспомнил убитого связиста.
По моей спине поползли большие, как желуди, зеленые жуки.
– Пойду в свой колодец, – проговорил напоследок младший лейтенант и шагнул в притихшее половодье озаренной июльским рассветом, понуро стоящей ржи.
Я тоже подался восвояси. Во взвод я возвратился на восходе солнца и не обнаружил старшего сержанта Миронова. Где он? Что с ним? Никто не знал. Взяв с собой двух бойцов – Адаркина и Загоруйко, пошел искать загадочно исчезнувшего помкомвзвода. Вероятно, наш поиск был бы безрезультатным, если б сам помкомвзвода не выскочил из отягченной росою, понуро склоненной ржи и не закричал чужим, как бы придушенным хваткой пятерней голосом:
– Немцы!
Мы сразу упали на землю, на вымокшие в росе ромашки и изготовились к стрельбе. Потом привстали, стали осматриваться, никаких немцев не увидели, увидели только спину панически бегущего Миронова. Бежал он в направлении своего окопа. Когда мы вернулись на позиции взвода, весь взвод был поднят на ноги. Я подошел к старшему сержанту, опросил его, где он видел немцев?
– Там, во ржи.
– Столько их?
– Человек сорок.
Мне подумалось, а может, в самом деле где-то возле нас залегли немецкие солдаты?
До самого завтрака, чутко прислушиваясь к шороху ржаных колосьев, простояли мы, заняв круговую оборону, все ждали немцев, но немцы так и не появились. Позавтракав, я залез в свой окоп и сладко заснул.
Спал я так крепко, что связной командира роты долго не мог меня разбудить. А когда я открыл глаза, он запыхавшейся скороговоркой пробалакал:
– Товарищ лейтенант, швыдко до командира роты!
Связной, придерживая сумку противогаза, во весь рост, демаскируя (к великому удивлению Тютюнника) так тщательно укрытые позиции, вприскок побежал по стряхнувшему утреннюю дремоту, чутко настороженному полю и скрылся в мыске завороженно притихшего леса.
Лейтенант Шульгин, выслушав доклад о моем прибытии, демонстративно при уже прибывшем Ваняхине и при командире 3-го взвода младшем лейтенанте Заруцком, достал из полевой сумки карманное зеркальце и подал его мне. Я растерялся, не знал, что делать: брать или не брать совсем ненужную, немало удивившую меня принадлежность сугубо мирного туалета.
– Ты возьми да погляди на себя.
Я давно не глядел на самого себя. Я даже рад был, что наконец-то меня никто не упрекает за мой внешний вид, за неподшитый подворотничок, за незастегнутую пуговицу. Но командир роты обратил внимание не на пуговицы, его устрашила моя физиономия. Я сам устрашился, когда лицом к лицу встретился с самим собой. Я не узнал себя, на меня смотрел какой-то колодезник, весь заляпанный жирным воронежским черноземом. Стало как-то неловко перед своими товарищами. Я тут же окунулся в увешанную каплями росы непримятую траву. А командир роты приказал своему связному вынести котелок воды и розовый голыш туалетного мыла. К мылу я не прикоснулся, не прикоснулся бы и к воде (ведь вода-то нужна для питья), но связной сказал, что он нашел потайную криницу и что теперь можно умываться не каплями росы, а жменями криничной водицы. Я припал к ней губами, вбирал в рот и тонкой струйкой выпускал в смеженные ковшом ладони. Во рту приятно холодило, отдавало переспелой земляникой, и я чувствовал, как начинали рдеть, землянично наливаться мои щеки. А когда утерся (листком конского щавеля), глянул на грустно притихшего Ваняхина, он понял мой взгляд и взмахом руки дал понять, дескать, ладно, сойдет, не к теще в гости приехали…
Я застегнул на все пуговицы воротник гимнастерки, потуже подтянул ремень и был готов доложить командиру роты о своем приведенном в надлежащий порядок внешнем виде, но лейтенант Шульгин даже не глянул на меня, прошел мимо, потом кивком головы позвал всех нас (командиров взводов) за собой в глубь леса, что просеивал сквозь трепетную листву еще не так высоко взошедшее солнце.
Дорогой я спросил тяжело идущего впереди меня Ваняхина: куда мы идем?
– В штаб батальона, – ответил младший лейтенант Ваняхин. Он наклонился, сорвал из-под ног травинку и сунул ее в рот.
Я тоже сорвал, но не травинку, сорвал листок орешника, приложил его к губам прохладно-матерчатой шершавой изнанкой и стал вбирать в себя воздух, лист лопнул, лопнул без хлопка, и это меня удивило, не получилось того эффекта, который так ловко получался во все еще не забытом мной деревенском мальчишестве. Значит, я уже далек от мальчишеских забав, и все же меня так и подмывало прикоснуться, прильнуть щекой к тоненько поющей, шелушащейся тонкой кожицей березе.
Мне не было ведомо, под какой осиной окопался штаб батальона, не было ведомо, по какому поводу, по какой нужде мы шли в этот штаб. Я не пытался разгадать столь важную военную тайну, я был удивлен таинственной немотой всегда о чем-то разговаривающего леса. Только тихое, едва уловимое пенье шелушащейся березы. Хоть кукушка бы закуковала, впрочем, она уже откуковала, эта вещая, неизвестно куда улетевшая птица.
Вдруг под ноги Ваняхина, трепеща едва оперенными крылышками, кинулся выпавший из дупла коряжистой ветлы неразумный птенчик, наверно, дрозденок. Ваняхин сгреб его в ладони, потом приподнял и стал кормить изо рта разжеванной травинкой…
– Смирно! Товарищ старший политрук, командный состав второй прибыл по вашему приказанию.
Лейтенант Шульгин не растерялся, он первый заметил трудно сказать откуда появившегося комиссара батальона. Все недвижимо замерли, и только Ваняхин все устраивал в полевой сумке завернутого в кленовые листья несмышленого дрозденка.
Возле глубоко отрытого и многонакатно накрытого штабного блиндажа я увидел почти всех командиров, хорошо знакомых мне по Новоузенску, по Курдюму: командира первой роты Терехова, командира третьей роты Полянского, командиров взводов Аблова, Захарова, Русовца…
Старший политрук Салахутдинов все время поглядывал на блиндаж, из него должно было выйти более высокое начальство, и оно вышло. Снова раздалась команда «смирно», но ее приглушил взмах красно окантованной интеллигентно-белой руки. Эта рука пожала руки всех без исключения лейтенантов и младших лейтенантов.
– Кто это?
– Комиссар бригады, – подсказал мне младший лейтенант Ваняхин.
Комиссар бригады присел возле комля свилеватой березы. Мы тоже присели. Похоже было, что нам предстоит выслушать политинформацию. Кстати говоря, мы уже несколько дней не читали газет, смутно знали, что происходит на фронте. Что касается меня, я и не ждал их, этих газет, ведь я давно приготовил себя к встрече с немецкими танками…
– Товарищи, – мягким, доверительным голосом начал свое выступление старший батальонный комиссар, – нами получен особо важный приказ народного комиссара обороны № 227. Приказ этот продиктован исключительно серьезной обстановкой, которая сложилась в результате наступления немецко-фашистских войск на юго-западном направлении, в том числе и в районе Воронежа. Вам, вероятно, известно: большая часть Воронежа находится в руках противника…
И как бы в подтверждение своих слов комиссар бригады стал зачитывать приказ:
«Пора покончить отступление. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности».
Дальше в приказе говорилось, что, когда немцы дрогнули и начали отступать под Москвой, верховное командование немецких войск создало штрафные роты и батальоны, куда направляли провинившихся солдат и офицеров.
Приказ констатировал, что наши предки не брезговали учиться у противника, не пора ли и нам поучиться у него, потому что речь идет о том, быть или не быть Советскому государству.
Комиссар бригады глянул на рядом сидящего Салахутдинова, думая, что он что-нибудь скажет, но Салахутдинов, так любивший говорить, ничего не мог сказать. Старшего политрука особенно поразило то место приказа, где призывалось учиться у немцев, ведь он всегда с презрением говорил о разных фрицах да гансах, которым давно бы пришел капут, если б союзники поторопились с открытием второго фронта…
А мне было горько и обидно до слез, что в приказе признавался тот факт, что 70 миллионов советских людей находятся в фашистском плену, что враг захватил половину промышленных и сырьевых ресурсов Советского Союза, что нависла реальная угроза захвата среднего и нижнего течения Дона.
О Русская земля! Уже за шеломянем еси!