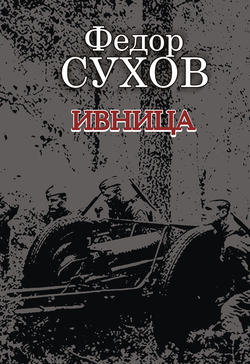Читать книгу Ивница - Федор Сухов - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
16
ОглавлениеРванулся, подался вместе с восходящей зарей, сошел с места неожиданно грохнувший сотнями батарей зимний, исхоженный красноармейскими валенками, сразу всполошившийся лес. Было время, когда мне казалось, что только немцы, что только они способны по два, по три часа глушить ну хотя бы те памятные, и не одному мне, воронежские подсолнечники. Подхваченный, легко приподнятый, вразнобой, то басовито, то трескуче-раскатисто, как будто неслаженный, но единый в своем порыве, хватающей за душу канонадой, я даже не могу выразить, как я добежал до штаба батальона, чтоб доложить, нет, не о Загоруйко, не о том, что он уснул, доложить о том, что подмывало и хватало за душу, что сдвинуло с места не только лес, всю землю сдвинуло, окрылило ее, русскую землю окрылило… Белоснежные, лебединые крылья русской земли, они плескались, били мне в уши, и я не зажимал ушей, я слышал, как весело запела моя подогретая утренней зарей, тоже русская и тоже окрыленная кровь.
Старший лейтенант Брэм (он стал старшим лейтенантом) строго глянул на меня и пригасил мой мальчишеский восторг совсем обычно и привычно сказанными словами:
– Иди во взвод и жди дальнейших распоряжений.
А во взводе все встали на ноги, все впряглись в вещевые мешки. Набивали патронами подсумки, трогали защелки магазинных коробок, с оттяжкой чмокали затворами ружей.
– Вот и до нас докатился Сталинград, – проокал неизвестно кому, наверно, самому себе, уже готовый двинуться, готовый ступить на заснеженное поле брезентово опоясанный, на все крючки застегнутый Симонов. В нем есть что-то от Ермака Тимофеевича, от его дружины: широко расставленные ноги и взгляд, куда-то вдаль устремленный, все охватывающий, чутко настороженный взгляд.
– Что ты, Симонов, говоришь?
– Сталинград, говорю, до нас докатился.
Батареи били сначала во глубине леса, били без обычных (как летом) раскатов – отрывисто, резко, залпы не только слышались, но и виделись во всей своей огненной запальчивости, по отдельным звукам, по тону звука, по залпам уже научился отличать калибры как наших, так и немецких орудий, били наши 152-мм орудия. Потом шарахнули стоящие неподалеку от отрытых нами щелей 122-мм гаубицы, они как бы рвали на себе стесняющую их одежду и устремлялись вперед, подпрыгивая после каждого выстрела.
Не примятый, не исхоженный валенками снег до черноты надышался пороховой копотью. Прибежал сержант Афанасьев, что-то начал говорить, но я ничего не мог расслышать, за моей спиной ударила батарея 76-мм пушек, ударила так, что на мою шапку посыпались ледышки с тронутой черными пятнами комлистой березы.
– Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант…
Сержант приподнял руку, вытянул ее туда, где пребывал командир роты, я понял, что меня вызывает мое непосредственное начальство, мигом предстал перед его черно круглящимися глазами.
– Выводи взвод на опушку, – выждав кратковременной паузы в грохоте все еще не стихающей, довольно продолжительной артподготовки, приказал младший лейтенант Заруцкий, он и сам подался к хорошо памятной мне опушине.
Я шел впереди взвода, шел с готовым к бою автоматом, сейчас я могу даже в мельчайших подробностях восстановить внешнюю картину нашего наступления, но трудно после стольких лет передать – и не чьи-нибудь – собственные ощущения, я знал, как и всякий человек, идущий в атаку, что мне предстоит встреча – лицом к лицу – с противником, не исключена и рукопашная схватка, по всему чувствовалось, что мы будем действовать как стрелки-пехотинцы, впрочем, так и должно быть, я ведь даже кончал пехотное училище, бронебойщиком стал только потому, что была большая нужда в тех, кто мог противопоставить себя вражеской броне, ее ползущим гусеницам. На опушке я увидел старшего лейтенанта Брэма, он был в белом нагольном полушубке, полушубок был застегнут на деревянные палочки, и, что меня удивило: старший лейтенант с автоматом на груди, значит, он тоже пойдет в атаку… Артподготовка, близость комбата, всеобщая приподнятость, все это окрыляло, и я не могу сказать, что меня что-то могло остановить, придержать, я был похож на молодого жеребчика, неподалеку от смерти я не думал о смерти.
На правом фланге, в полосе наступления соседней с нами части, уже слышалось «ура», уже учащенно стучали пулеметы, а в воздухе стояли дымки от разрывов шрапнельных снарядов. Видел я и идущие, как по воде, брызжущие снегом наши тридцатьчетверки.
Взвилась серия красных ракет, я знал, что это сигнал нашего броска, нашей атаки. Первым двинулся взвод лейтенанта Захарова, двинулся рассредоточенно, поначалу вроде бы легко, но противотанковые ружья, патроны к ним пригибали взвод к замятюженной земле, ноги тяжелели, они с трудом выбирались из мятюга. Двинулся мой взвод, я знал, что по новому боевому уставу мое место в наступлении позади своих бойцов, но я был так легок на ноги, что сразу вырвался вперед, да и как не вырваться, я был отягощен одним автоматом, а тот же Загоруйко, тот же Волков – винтовкой, противотанковым ружьем, противотанковыми гранатами.
– За Родину! За Сталина!
Придерживаю себя, оглядываюсь, вижу капитана Салахутдинова, это он кричит, он воодушевляет приотставшего Наурбиева. Капитан догоняет Наурбиева, догоняет Тютюнника, он обнажил, поднял над головой свой пистолет, он бежит неустрашимо и неудержимо, так что рассказанная Ваняхиным колодезная история теперь могла показаться явно неправдоподобной.
Резанула пулеметная очередь, резанула так, что пули, как мне казалось, застряли в моих ушах. Застряли они и в ушах Адаркина, даже Симонов, и тот услышал их причмокивающий посвист.
Чох-чох… тик-тью… фью-фью-фью…
Взвод залег. Ударился зашинеленной грудью о волноватое, зыбучее стекло наста и – замер.
Я знал, что надо стрелять, надо вести ответный огонь. Все это знали, но попробуй приподними голову, а не приподнимешь – не стрельнешь. Примечаю какой-то бугорок, ползу, вижу припорошенный, заледенелый труп нашего пехотинца, а вон еще труп, много-много трупов. Значит, какая-то пехотная рота раньше нас пыталась прорвать оборону противника. Не прорвала, полегла.
Приподнимаюсь, бегу, как на комки сахара, на вылопаченный из траншей снег.
Чох-чох… тик-тью… фью-фью-фью…
Нет, я не упаду на стекло наста, не спрячу приподнятую голову за какой-то бугорок. Я знаю, что упасть куда легче, чем встать, а не встанешь, не приблизишься к комкам блистающего под холодным низким солнцем ослепляющего сахара.
Бегу, бегу так, что на какое-то время забываю об Адаркине, Тютюннике, Наурбиеве и не слышу ни ветра, ни посвиста пуль, ничего не слышу, слышу только треск своего автомата, я приближаю свой автомат к вылопаченному снегу, но стрелять не стреляю, я вижу черные бараньи шапки, вижу поднятые руки. Кричу:
– Gewer wey![5]
Поднятые руки зашевелились, дали понять, что к оружию они уже не прикоснутся.
– Мы не немец, мадьяр мы. Плен… Плен…
Мадьяр я никогда не видел, может, поэтому жестом скользнувшей по шинели руки я потребовал от близко стоящего солдата, чтоб он предъявил мне свои документы.
Взял вынутый дрожащими пальцами глянцевито-черный бумажник. Увидел в нем, по всей вероятности, солдатскую книжку и голубые маленькие конвертики. В одном из конвертов хранилась фотография миловидной девушки.
– Das ist deine Frau?[6]
Солдат отрицательно покачал головой. Потом он сказал так, что я сразу все понял:
– Это моя… Любишь… Кохать…
Я возвратил, передал в дрожащие, может, от холода, а может, от страха руки глянцевито-черный бумажник, руки эти благодарили меня, благодарили и глаза, прикрытые длинными, мохнатыми от инея ресницами.
Они выходили из траншей, из ходов сообщений, молодые и пожилые, усатые и безусые, они, как сурепкой, зажелтили своими шинелями белоснежное русское поле, они, сыны голубого Дуная, наконец-то отвоевались. Плен… Плен…
На некоторое время я сделался как бы начальником по приему военнопленных. Если б не капитан Салахутдинов, я бы, наверное, еще долго перебирал в памяти знакомые мне со школьной скамьи немецкие слова, доказывал бы охотно соглашающимся солдатам, что Hitler nicht gut[7].
– Хорти, Хорти…
Я не мог не знать, кто такой Хорти, и говорил:
– Хорти auch nicht gut[8].
Капитан Салахутдинов все еще не выпускал из рук пистолета, он вытащил из какой-то норы странного человека и привел его на сборный пункт. Человек был одет в рваный русский полушубок, обут в какие-то соломенные морозоступы. Капитан, надо полагать, думал, что он поймал важную птицу, возможно, переодетого генерала, которого надлежит сдать в начальственные руки, хорошо бы самому командиру бригады. Но начальства поблизости не было, были Наурбиев, Тютюнник, Адаркин, люди невысокого полета.
Пленные переглянулись, увидели более представительного командира, чем я, и молча, с какой-то жалкой покорностью дожидались своей участи. Капитан ткнул пистолетом в рваный полушубок и спросил:
– Кто он?
– Я русин, пан. Холоп. Карпата. Ужгород, – сам за себя ответил длинный, с обвислыми чумацкими усами обитатель ведомой мне по прочитанным книгам Закарпатской Руси.
Капитан понял, что он дал маху, холоп сам бы мог найти дорогу в плен, он давно ждал случая, когда можно будет сбросить шинель и надеть овчинный полушубок, полагая, что овчина спасет его и от мороза, и от той усталости, которая неминуемо должна была постигнуть его далеких по крови, но близких по месту рождения, забредших в гущу придунайского славянства потомков азиатских кочевников.
5
Оружие прочь!
6
Это твоя жена?
7
Гитлер нехороший.
8
Хорти тоже нехороший.