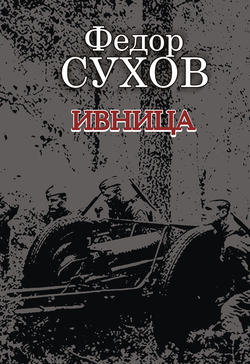Читать книгу Ивница - Федор Сухов - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
14
ОглавлениеСолнце всходило и не могло взойти, не могло выкатиться из-за снежных завалов и, обессилев, замшилось, не обрадовав своим светом ни окон стоящих при дороге хатенок, ни сидящих на телеграфных проводах зябких воробушков. Одна только птичка чему-то радовалась, птичка эта легко подпрыгивала, и вся она – как анисовое яблоко. Снегирь. Я узнал его сразу, но боялся назвать по имени, боялся потревожить в себе другого снегиря, снегиря моего детства, но так уж случилось – потревожил. И не понять: то ли от встречного ветра, то ли от нахлынувших воспоминаний на глаза навернулась слезинка. Она дрожала на ресницах, я увидел ее, чистую, блескучую, а увидев, устыдился и смахнул вместе со снегирем… За пазухой заворочался кот, высовывал голову, высунул и замяукал, учуял живой дух – мы въезжали в большой населенный пункт. Почему-то думалось: в нем-то мы и должны остановиться. И – остановились. Из незастекленной кабины мешковато вывалился замполит, он прикомандировался к моему взводу и, вероятно, только потому, чтоб быть поблизости со своим генацвали.
– Товарищ лейтенант, куда мы приехали? – оглядывая нетронутые войной засугробленные хаты, спросил мой ординарец, ефрейтор Заика.
Я сам не знал, куда мы приехали, я был удивлен, подавлен райской тишиной не такого уж глубокого, прифронтового тыла. Выручил меня старший сержант Ковалев, он авторитетно заявил, что приехали мы на новые позиции.
– Займем долговременную оборону…
– А где мы ее будьмо займати? – поспешил осведомиться всерьез воспринявший авторитетное заявление старшего сержанта, соблазненный уж больно выгодными позициями Тютюнник.
– У баб под паневами.
Тютюнник до баб не очень-то был охоч, по крайней мере, в кармане его гимнастерки не хранилось никаких фотокарточек, возможно, он был женат, но и о жинке своей ни разу не обмолвился. Таким образом, старший сержант выбрал неподходящий объект для долговременной обороны. И все-таки Тютюнник не стал возражать, на худой конец он согласен и под паневой посидеть, лишь бы снеданок да вечерю вовремя привозили.
– Командира второго взвода к командиру роты! – прокатился по широкой, выскобленной лопатами улице подхваченный чьим-то басом голос сержанта Афанасьева.
Придерживая пляшущую на бедре туго набитую кирзовую сумку, я всем существом своим (как это делал лейтенант Аблов) подался вперед, легко добежал до машины, возле которой стоял младший лейтенант Заруцкий, и по всем правилам строевого устава доложился о прибытии. Младший лейтенант был весьма польщен проявленной мной дисциплинированностью. Он сам приложил к ушанке руку, как-то неестественно оттопырил большой, засунутый в напалок рукавицы слегка согнутый палец. Потом раскрыл планшет, по засунутой под его целлулоид карте я узнал, что мы находимся в Левой Россоши.
– Может создаться такое впечатление, что мы вышли из поля зрения противника, – как всегда размеренно и вкрадчиво, начал говорить младший лейтенант, – на самом деле противник следит за каждым нашим шагом, поэтому комбат приказал немедленно рассредоточиться…
– Как рассредоточиться?
– Разрешено войти в хаты.
Такого разрешения я не ожидал и от радости стукнул пятками, но ожидаемого мной эффекта не получилось, валяные пятки остались глухими, они никак не откликнулась на мою неожиданную радость, зато когда я возвращался к своему взводу, под моими ногами все играло и пело, да и сами ноги, как струны – играли и пели.
Без стука (в моем селе до сих пор в любую избу входят без стука) вошли мы в самую ближнюю хату и – остановились. На земляном полу на обрывке половика сидел мальчик, сидел без штанишек, в одной короткой, по пупок, рубашонке. Он сучил голыми отечными ножонками, а когда учуял вошедший вместе с нами холодок, приподнял заплаканные глаза, свои удивительной чистоты смородинки.
– Ма… Ма-ма…
– Где мама? – склонясь к мальчику, к его приподнятым смородинкам, попытался войти в контакт с необычной для всех нас тыловой обстановкой младший сержант Адаркин.
– Папа, папа, – ребенок снова залился крупно падающими с бледных голодных щек слезами.
Обронили зернышко не впору, не вовремя, обронили на сырую землю. Проклюнулось зернышко, потянулось к теплу и свету, но надвинулись тучи, притемнили свет, выстудили тепло, холодно стало и голодно.
Адаркин снял вещмешок, развязал его, порылся в нем, потом опустил руки – в мешке не оказалось ничего такого, чем можно было бы утешить окунутые в слезы смородинки.
Я не видел, когда и как развязывал свой вещмешок Тютюнник, но я видел на его ладони в обрывке старой, измусоленной газеты две-три щепотки каким-то чудом сбереженного сахарного песка. Ребенок побоялся к ним прикоснуться, можно предположить: он не знал вкуса сахара, знал только горечь своих и материнских слез.
Пришлось выпустить из-за пазухи зеленоглазого сибиряка. Кот мягко прикоснулся к земляному полу и, подняв усатую морду жалобно посмотрел на меня, ему, наверное, не хотелось расставаться с моим теплом. Ребенок успокоился, потянулся к коту, он даже улыбнулся, когда увидел стоймя стоящий дымчато распушенный хвост.
Глухо стукнула зашпаклеванная тряпичной ватой и забитая инеем дверь. Все мы обернулись. В хату вошла одетая в мужской полушубок еще молодая, но строгая на вид женщина. Она, не раздеваясь, кинулась к ребенку, взяла его на руки, стала тутушкать. Мы не знали, что нам делать, женщина не сказала нам ни слова, она даже не поздоровалась с нами, и мы спросили: кто она?
– Кто я? Человек.
Такой ответ мог бы не удовлетворить нас, но мы увидели, что разговариваем с хозяйкой не очень-то гостеприимной хаты. Я запомнил глаза этой хозяйки, они не походили на глаза сидящего на ее коленях мальчика – два бездонных омута неизбывного, безысходного горя, и тогда-то я уразумел, что такое война, верней, увидел эту войну с той стороны, с какой я ее еще не видел.
Глянул на Тютюнника, на Адаркина, на Заику, они вроде не устрашились пугающего своей глубиной неизбывного горя, не устрашился и мой помощник старший сержант Ковалев, он снял с себя автомат, приставил его к стене, снял шапку, пригладил жидкие пепельно-белесые волосы и, ничего не говоря, опустился на пол, присел на потемневший от времени чурбачок, на тот чурбачок, без которого не обходится ни одна хата, ни одна изба, на нем что-то рубят, что-то отесывают, затесывают…
Снова тяжело, с морозным стоном открылась дверь, в хате появилась говорливая и, видать, милосердная старуха, она сразу же, с порога сердобольно пропела:
– Что же ты, Настасьюшка, служивых-то не дюже приветливо встречаешь? Иззяблись небось служивые. Соломки бы принесла да грубку затопила. А угостить-то, чем их угостить-то, я и сама не ведаю. Какие они страсти терпят, какие они раны на себя принимают. А на улице-то опять все кухтой схватило, дюже на мороз завернуло.
Посмотрели на окошки, они залубенели. Когда-то к таким окошкам я приставлял пятачок, и изба наша становилась богаче, она, как начищенный самовар медалями, светилась большими круглыми монетами.
Нюстасьюшка легко перекинула на руки засмугленной степными ветрами, изморщиненной старухи свое пшеничное зернышко и принялась хлопотать по хозяйству. Сходила на двор, принесла соломки, нашла с десяток прихваченных морозом, увядших картофелин, положила их в котелок.
Вспыхнула солома в грубке, запалил ее Тютюнник, он хоть и не курил, но всегда держал при себе серники. А Заика (когда он успел?) притащил от старшины Шаповалова положенный нам на дорогу сухой суточный паек – четыре пачки крупы, шесть буханок хлеба, граммов сто комбижира, выложил на прикрытый клеенкой стол увесистый кулек сахарного песку.
В хате сделалось веселее, окна как будто оттаяли и – просветлели. Оживела и Настасьюшка, скинула полушубок, вымыла под глиняным рукомойником руки, вытерла их висящей на гвоздике холстиной. Потом отыскала в куте топорик и хотела было сызнова выйти во двор. Топорик мигом очутился в руках Заики.
– Дровишек наготовить? – быстро сообразил Заика и быстро возвратился с дровами, да с такими, от которых грубка взвыла, взвыв, начала жарко постреливать, все время прицеливаясь в потирающего ладонями, охочего до всякого тепла Наурбиева.
– Я пойду, Настасьюшка, – спохватилась уже забытая нами старуха. – Пойду, милая, пойду. Голубка-то своего береги, сморился он, куда положить-то его?
– Со мной он спит, на кровати.
– Я положу его на кроватку.
И все же старуха не ушла. Положила ребенка на кровать, прикрыла его попавшимся под руку платком и опять присела на скамейку.
– Семьдесят восемь зим прожила я на белом свете, сынки мои, всего нагляделась, но думала ли я, что до эдакой страсти доживу? Была война, японская, германская, мужик мой еще на японской сгиб, два сына остались, и они сгибли, чи на гражданской, чи на германской, сейчас она, война-то, и до моих косточек добралась. Нас ведь тоже все лето бонбили, козушку мою убило, а меня Господь оборонил.
– Значит, бабуся, будешь жить еще семьдесят восемь лет…
– Что вы, сынки мои, какая жизнь, коли смертушка кругом ходит, козушку и то не миновала. Глянула я и своим глазам не поверила – остались рожки да ножки, да и их разметало в разные стороны.
Не заметили, как в окна хаты уставился закат, и окна побагровели, наступил тот самый час, когда сумерничают, предаются досужим разговорам, вспоминают разные истории. Правда, затеянная мной ночная тревога, многокилометровый автобросок не могли не сморить того же Тютюнника, того же Наурбиева, но представился случай (на войне такое редко бывает) поговорить с людьми, которые уже успели познать весь ужас всемирной мясорубки, поэтому все мы внимательно слушали и нашу хозяйку, и обороненную от бонбы старуху.
– Бабка Груня, а ты расскажи, как на тебе немец верхом ездил, – подала свой голосок стоящая у грубки Настасьюшка, она вроде отошла, забыла свое горе.
– Немец, он на ероплане скакал, а мне показалось, что он на меня, старуху, уселся. Оно ведь и могло так показаться, так примститься, козушку-то разметало, а я в бега ударилась, бегу, а он, налетный, гудит надо мной, гудит и гудит, гудит и гудит, гуд энтот и сейчас из ушей не выходит…
С окон пошел закат, сделалось темно, только грубка светилась раскаленной плитой да Фомин попыхивал едва заметным огоньком потрескивающей цигарки.
– Настасьюшка, а ты что светло-то не поставишь? – промолвила, прервав свой рассказ, невидная в вечерней сутеми бабка Груня.
Заика опять быстро догадался, чего не хватает в приподнятой с подоконника настольной лампушке. Минут через десять в хате остро запахло бензином.
– Хлопцы, соль у кого есть? – осведомился Заика.
Соль нашлась у Тютюнника, винницкий колгоспник запасся не одним сахарным песком, он не побрезговал и солью, значит, на тот свет он больше не собирался.
В лампушку насыпали соли, потом налили бензину, подрезали тесьму, и в хате засияло давно не сиявшее в ней солнышко.
– Вы что, с ума сошли? – привстав со своего чурбака, напустился на любителей тепла и света старший сержант Ковалев.
А ведь и вправду с ума сошли, забыли замаскировать, накинуть что-то на окна. Накинули. И все же я не мог успокоиться, вспомнились слова командира роты: противник следит за каждым нашим шагом. Вполне возможно, он уследил и наше солнышко. Ничего не сказав, в одной безрукавке я вышел на улицу, предполагая, что на нее уже движутся эскадрильи немецких ночных бомбардировщиков. Яблочно, с аппетитным смаком хрустнул, отозвался на мои потайные думы крупитчато-рассыпчатый снежок. Я насторожился, недвижимо замер и весь устремился в небо, которое шевелилось первыми зябкими звездами, а там, где столбился, багровел закат, подернулось озерной ледяной зеленцой. Небо отчужденно, колодезно безмолвствовало, но что-то гудело, что-то ныло так близко, что я еще более насторожился. И только тогда, когда меня стал донимать мороз, я догадался, что гудят телеграфные столбы. Подпрыгнув от снизошедшей на мои плечи окрыляющей радости, я пробежался по улице. Возвратился в хату с жарко пылающими, ошпаренными морозом ушами.
Укладывался на разостланных по земляному полу шинелях мой противотанковый взвод, он распростился с бабкой Груней, старуха убралась на свои кирпичики, на свою соломой обогретую печь. Осталась Настасьюшка, она сидела возле кровати, возле своего зернышка и тихо всхлипывала. С чего? Почему? Никто не знал, никто не мог знать.
Темная вода во облацех, темны и бабьи торопливо спрятанные в подол молчаливые слезы.
Бросил на пол меховую безрукавку, хотел было укрыться ее овечьей шерстью, но мой помощник старший сержант Ковалев подозвал меня к наполненному кашей котелку.
Пожалуй, за все время пребывания в армии (в тылу и на фронте) я полностью удовлетворил насущные потребности своего желудка. Думаю, досыта наелся и Тютюнник, иначе он не лежал бы так смирно и не смотрел бы на расклеенные по потолку газеты со снимками приехавшего в Москву Риббентропа, а также с текстом договора о ненападении и взаимном сотрудничестве между Советским Союзом и Германией.
Глянул на притихшую Настасьюшку, на ее пшеничное зернышко и – обжегся, обжег себя той слезой, что выкатилась из бездонного омута, что светилась на его опущенных ресницах.
Почему-то опять потянуло на улицу, застегнул безрукавку и в одной безрукавке вышел на мороз под аспидно-черное, в крупных звездах небо. Мне показалось, что я опустился в какой-то глубокий колодезь, и, если б не снег под ногами, я бы не мог подумать, что мои валенки на поверхности земли, что я в Левой Россоши – земля не ощущалась, не виделась, сплошная колодезная темь. В такую темь невольно устремляешь себя к небу, к звездам. На какое-то время я забыл о войне, забыл о том, что я командир взвода противотанковых ружей, я возношусь к созвездию Геркулеса, иду по Млечному Пути…
– Стой! Кто идет? – послышался чей-то голос.
– Свои.
– Кто свои?
Говорю свою фамилию, свою должность, возвращаюсь к самому себе, вновь приближаю себя к Тютюннику, Наурбиеву, Адаркину…
– Это вы, товарищ лейтенант? – нет, не Тютюнник спросил, спросил Заика, он услышал всхлип тяжело открывшейся двери, услышал дыхание вошедшего вместе со мной круто завернувшего мороза.
Все так же горит лампушка, топится грубка, я сажусь на скамейку, молча гляжу на спящего Адаркина, Фомина, гляжу на Загоруйко, я еще никогда не видел, чтоб кто-то из них так самозабвенно отдавался сну, сказалась отдаленность от передовой, безопасность сказалась.
– А вы что не приляжете? – пропела со своей кровати припавшая к пшеничному зернышку Настасьюшка.
А и впрямь, почему я не прилягу, почему то и дело выбегаю на улицу, подолгу пребываю на морозе? Наверное, потому, что я считаю себя виноватым перед тем же Адаркиным, перед тем же Фоминым за ту тревогу, которую я затеял без какой-либо надобности, скорей всего, по глупости…
Треснул огонек в лампушке (по всей вероятности, от соли), треснул так, что я вздрогнул, вот ведь как получается, на передовой вроде бы держался, не вздрагивал, тут – вздрогнул. Посмотрел на прикрытую вязаным платком Настасьюшку, хотелось, чтоб она привстала, чтоб что-то еще пропела. Не привстала. Посмотрел на сладко опочивающего Тютюнника, на его лицо, оно мне показалось не таким, каким я видел на протяжении восьми месяцев, лицо винницкого колгоспника на удивление походило на обличье запорожского казака, правда, оно не было так воинственно, но черные, придвинутые к переносице брови, горбоносость, припухшие губы, все это, как с картины Репина, с той картины, которая рассказывает, как писалось письмо турецкому султану.
Проскрипели чьи-то шаги, мои глаза прилипли к белому лубку бокового окна, прилипли под приподнятым одеяльцем, под тем одеяльцем, что маскировало, не пропускало свет потрескивающей лампушки.
Кинулся к двери, выбежал во двор. И – столкнулся с замполитом, со старшим лейтенантом Гудуадзе.
– К тебе иду, – тяжело дыша, проговорил мой наставник, мой доброжелатель.
Вошли в хату. Думалось, никто не услышит, никто не приподнимет головы, тихо посидим, поговорим. Приподнялась Настасьюшка, глянула на припорошенного морозным инеем пожилого человека и – потупилась. А пожилой человек снял со своих рук меховые варежки и схватился за усы, они бело, мучнисто заиндевели, понадобилось немало времени, чтоб они оттаяли, обрели тот вид, какой не так уж старил пожилого человека.
Откуда-то спрыгнул, стукнулся пушистыми лапами о земляной пол мой зеленоглазый сибиряк.
– Генацвали!
Кот потянулся, выгнул спину, но побоялся подойти к прикрытым тающим снегом валенкам, приподнял зеленую тоску своих бездомных глаз и выжидательно притих.
Мне показалось, что замполит кроме кота ничего не видит. Я ошибся, замполит все видел, он только придерживал себя, не спешил войти в чужую дверь, в чужую душу.
– Товарищ старший лейтенант, проходите, – как-то сами собой слетели с моих губ эти не по-армейски прозвучавшие слова.
– Куда я пройду? Куда?
– К столу.
– А чем угощать-то будешь?
Угостить я мог только пшенной кашей, что была сварена в довольно вместительном чугуне и сдобрена комбижиром.
Замполит не отказался, снял шапку, подсел к чугуну, вынул из полевой сумки алюминиевую ложку и аппетитно угостился.
Приподнялся старший сержант Ковалев, поприветствовал замполита, потом вышел на улицу, на улице пробыл долго, наверно, смотрел на звезды, по звездам узнавал время, а может, углядел зеленоватую выбрезжь рассветной зари, впрочем, по моим предположениям, до зари было недалеко, я как-то нутром ощущал ее приближение…
Проснулось пшеничное зернышко, проснувшись, заплакало. Значит, и оно ощутило зеленоватую выбрезжь, оно приподняло свои смородинки, а смородинки приподнимаются только навстречь близкой паутри.
В хату, в ее еще не выстывшее тепло ввалился сержант Афанасьев, он передал приказание командира роты о дальнейшей дислокации, о том, чтоб взвод ровно в 6.00 был возле своей машины.
Мне не нужно было кого-то будить, все поднялись сами, все понимали, что наша хата – не наша позиция, она – наш бивак. Жалостно посмотрел на меня мой зеленоглазый сибиряк, посмотрел он и на сидящего на грубо сколоченной скамейке старшего лейтенанта Гудуадзе, знала кошачья душа, кто может проявить какую-то заботу о ее судьбе, о ее бездомной участи. Старший лейтенант стал уговаривать вставшую с кровати Настасьюшку чтоб она приютила жалобно смотрящего генацвали, и торжественно пообещал по окончании войны заехать за ним, чтоб увезти его к себе домой, в Грузию, я тоже замолвил словечко за своего недавнего квартиранта.
Тонкие, солонеющие одиноким бабьим горем печально поджатые губы тронула едва заметная улыбка.
– А паек вы на него высылать будете?
– Конечно, будем! Доппаек вышлю! – авторитетно заявил вскинувший свою седую голову чудаковатый человек.
Улыбнулось пшеничное зернышко, живей засветились его омытые слезами смородинки.