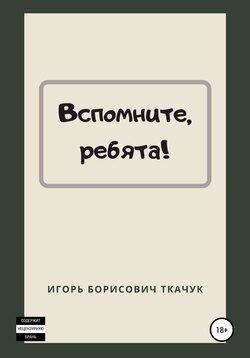Читать книгу Вспомните, ребята! - Игорь Борисович Ткачук - Страница 2
Часть первая
Детство и школа
Фронт рядом
ОглавлениеФронт не дошел до Ассиновской 60 километров. Немцев остановили на окраине Владикавказа.
Название этого города периодически менялось. Дважды столицу Осетии называли Владикавказом (в 1931 и 1990), дважды Орджоникидзе (в 1944 и 1954 годах) и один раз Дзауджикау (в 1954 году). Немецкие самолеты летали над Ассиновской бомбить Грозный. Зарево горящей там нефти было отчетливо видно по ночам. На нас фашисты не разменивались. Однажды метрах в пятидесяти от нашего дома упала, видимо случайно брошенная, бомба. Воронка так и осталась не засыпанной. На станичном выгоне, начинавшемся за нашим жилым домом (месте прогулок старшей группы детсада), с 13.08.1942 по 07.01.1943 года базировался 46 гвардейский женский авиаполк ночных бомбардировщиков У-2 (кукурузников), участвовавший в обороне Владикавказа, в уничтожении войск и техники немцев в районах Моздок, Прохладный, Дигора. За ночь летчицы совершали до девяти боевых вылетов. Поразительно, но полеты на этих самолетах, созданных из деревянных брусков, фанеры и полотна до осени 1944 года совершались без парашютов. Присутствие этого спасательного устройства не было предусмотрено конструкцией кабины. Стрелково-пушечное вооружение на У-2 также отсутствовало.
В мемуарах гитлеровского пикировщика Ганса-Ульриха Руделя я с гордостью за этих девчат прочел жалобы на их «коварство». Он – единственный в Рейхе кавалер «Золотых дубовых листьев с мечами и бриллиантами к Рыцарскому кресту Железного креста» (какова пышность названия) – сетует на ночные налеты» маленьких, опутанных тросами бипланов», «воздушных змеев», летчики которых на подлете к цели выключали двигатели и, заметив горящий свет, бросали небольшие осколочные бомбы. Кстати, У-2 «возил» и фугасные бомбы. Бомбовая нагрузка составляла 400 кг. «Больших успехов они обычно не добиваются», – сообщал бывший ас, – «…это только попытка расшатать нам нервы». Правда, далее Рудель признает, что некоторые из коллег, в числе и командир эскадрильи, награжденный «Дубовыми листьями» (простыми, без прибамбасов), во время таких налетов были убиты. То есть получили в дополнение к «Железным крестам с дубовыми листьями» кресты сосновые.
О героизме и самоотверженности девушек свидетельствуют впечатляющие сведения. Летный состав полка, во главе с командиром Е. Д. Бершанской, включал в себя 40 человек. Из них погибли 11 летчиков и штурманов. 23-м было присвоено звание Героев Советского Союза.
В память о «ночных ведьмах» остались окопы аэродромной охраны на вершинах и у подножий двух небольших курганов (по оценке археологов – скифских воинских захоронений), расположенных на дальней границе выгона. Курганы и окопы были местом наших игр «в войну» во время прогулок.
По воспоминаниям мамы, в 1942 году работники завода уходили на фронт под Владикавказ и гибли там, даже не успев получить военного обмундирования. В числе погибших там был и наш сосед – отец Васьки Бабадеева.
Эвакуироваться мы не могли. Переполненные беженцами поезда на Баку, оттуда паром за Каспий, шли через станцию Серноводская. Умерших в пути грудных детей, по словам очевидцев, хоронили в чемоданах рядом с железной дорогой. Вернувшиеся из Баку неудачники рассказывали об недоступных ценах на продававшуюся стаканами воду, о невыносимых условиях ожидания парома и беспорядках в очереди.
Мамина подруга, Янина Францевна Салостей, переправившаяся в потоке эвакуировавшихся через Каспий, рассказывала в 60-х годах прошлого века о том, как под покровом ночи одна обезумевшая семья сбросила за борт своего умиравшего старика.
После войны мы узнали, что при передислокации частей Южного фронта через Ассиновскую проходила вместе с хирургическим полевым передвижным госпиталем № 2340, переименованным 20.05. 1942 г. в хирургический полевой передвижной госпиталь № 4358, родная сестра отца, Ткачук Александра Васильевна (тетя Леся). Ее призвали в действующую армию 15 июля 1941 года в качестве военного врача сразу после выпуска из Одесского мединститута. В 1942 году она получила тяжелое ранение и лечилась в г. Джалал-Абад Киргизской ССР. Была награждена особо ценимой среди фронтовиков медалью «За отвагу», которой удостаивали исключительно «…за личное мужество…». Войну закончила майором медицинской службы. О военных заслугах тетя говорила скупо, о войне вспоминать не любила. В январе 2015 г. на сайте «Подвиг народа» я нашел наградные документы, описывающие неизвестные мне черты ее характера: «Ткачук А. В. служит в хирургическом полевом передвижном госпитале с первых дней войны. Бесстрашный врач. Неоднократно проявляла героизм в деле спасения раненых, работала под бомбежками и пулеметными обстрелами авиации противника в пунктах Сальск и Хумалаг (Северная Осетия – и.т.)…При отходе войск из Сальского района (Ростовская обл. – и.т.) под минометным обстрелом противника заменила выбывшего из строя старшего врача 807 артиллерийского полка, организовала перевязочную, оказала медицинскую помощь, мобилизовала транспорт и вывезла всех раненых, сама уйдя последней.
Тетя Леся. Одесса 1941 г.
За период работы госпиталя в станице Черноерковская (Славянский район Краснодарского края – и.т.)…показала образцы хирургической работы. Во время большого потока раненых не выходила из операционной по 20–22 часа, спасая жизни бойцов…»[4].
Не знаю, было ли известно тёте содержание этого наградного листа. Однако во время нашей последней встречи она ответила на расспросы о событиях лета 1942-го под Сальском коротко: «Вывезла раненых из окружения, когда начальники сбежали». Эти запомнившиеся слова бросают невольную тень на фразу из представления к награде о «выбывшем из строя старшем враче». Впрочем, ответа на возникающие вопросы мы уже не получим.
В 1942 году, при передислокации войск Южного фронта тётя имела возможность увидеться с нами в Ассиновской, но считала, что мы эвакуировались, и встреча не состоялась.
Кстати, окружавшие меня в детстве бывшие фронтовики, о Войне вспоминать тоже не любили. Самым героическим из них мне представлялся Леня Бичурин, приезжавший навестить сестер – наших соседок Марию Павловну, мамину подругу, сотрудницу заводской лаборатории, и Софью Павловну, воспитательницу детсада (из казанских татар). Леня (Леонид Павлович) был фронтовым разведчиком. Надетые по случаю первой встречи ордена и медали с трудом помещались на гимнастерке. Горло бывшего разведчика уродовал вывернутый на сторону кадык – последствие рукопашной с «языком». Коротая с нами вечера на кухне, Леня ни разу не упомянул о своих фронтовых заслугах. Более удивительными для него были детали фронтового быта фашистов: как-то во время рейда его группа захватила штабных офицеров, которые в момент печального, а по большому счету, удачного для них события (уехали в плен, но живыми) спали раздетыми в постелях с бельем, подушками и одеялами. Вспоминая этот рассказ в зрелом возрасте, я уловил в подтексте, как минимум, два значимых для Лени обстоятельства. Во-первых, за время Войны ему, очевидно, ни разу не пришлось спать в постели. Во-вторых, в тот раз группа, скорее всего, брала «языков» на значительном удалении от передовой.
Демобилизовавшись, Леня поступил в горный институт и приезжал на каникулы в красивой форме черного (или темно-синего) цвета, украшенной квадратными погонами с вензелями из желтого металла.
4
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navResult