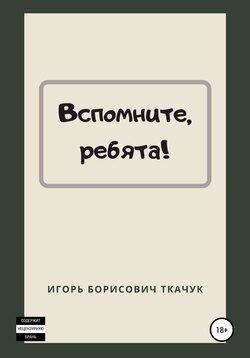Читать книгу Вспомните, ребята! - Игорь Борисович Ткачук - Страница 4
Часть первая
Детство и школа
Детали быта военного времени
ОглавлениеОтсутствие в обиходе многих необходимых вещей пробуждало у окружающих изобретательность в духе героев Жюль-Верна и давно забытые навыки. Мужчины, чаще старики, за неимением спичек, вернулись к огниву (кресалу), представляющему собой, согласно энциклопедическому словарю, «стальную пластину для добывания огня путем удара о кремень и применявшемуся с начала железного века». Такой способ добывания огня представлялся куда занимательнее, чем обыденное чирканье спичками. Помню, как «деды́», не спеша, доставали из кисетов нарезанные листки газеты для самокруток, которые заполняли табаком-самосадом. Широкое проникновение последнего в число местных огородных культур побудило остряков переиначить название народной песни «Сама садик я садила» на «Самосадик я садила». Затем в дело шли кремень и кресало. Курильщики делились друг с другом тонкостями изготовления трута из древесных грибов. По ходу процесса высекали на распушенный торец трутового жгута искру, которую, следуя рекомендации поэта-декабриста Одоевского, раздували до возгорания (устойчивого тления). В качестве кресала использовались обломки напильников. Кремень отыскивали на Ассе.
Огниво можно было бы заменить зажигалками, которые изготавливались умельцами из механического цеха завода, если бы не одно «но». Камни для зажигалок продавались в Орджоникидзе спекулянтами поштучно, по баснословной цене.
У жилдомовских дровяных сараев имелась самодельная коптильня. Ею по очереди пользовались владельцы свиней, выращенных в тех же сараях. Сооружение представляло собой вырытую в земле печь с отходящей закрытой траншеей, увенчанной вертикально стоящей жестяной трубой, внутрь которой подвешивались окорока. Топилась коптильня заранее припасенными опилками.
Вспоминаю бытовую изобретательность мамы. Она сварила на электрической плитке в нашей комнате, а не на кухне, чтобы не травмировать обоняние соседей, полный таз хозяйственного мыла. Исходное сырье составляли прогорклый жир из заводских отходов и каустическая сода. В густой бежевой массе вспухали и лопались пузыри. Вонь стояла ужасная, даже по тогдашним ощущениям, зато результат получился замечательный. Плодами маминого труда мы пользовались сами и делились с соседями. Наш продукт безошибочно узнавался по периферическим кускам застывшего и затем нарезанного мыльного каравая, повторявшим плавные изгибы варочного таза. Крахмал для хозяйственных нужд изготавливался из картофеля.
Думаю, условия тогдашней жизни вызвали у меня впоследствии горячий интерес и сочувствие к проблемам жизнеустройства героев «Таинственного острова» Жюль – Верна. Описания рационализаторских находок инженера Сайруса Смита я воспринимал в качестве разновидности справочной литературы.
Еще одной памятной находкой мамы стал способ лечения чесотки, которую я получил в результате слишком тесного, в прямом смысле слова, общения с лошадьми на конном дворе завода.
До теперешнего времени официальная медицина лечит эту болезнь путем двухразового втирания в течение 6–8 дней в кожу больного серной мази с добавлением дегтя, свиного сала или вазелина. Помывка и смена белья допускается на 8-й день. Для нас такой способ лечения оборачивался домашним карантином и бельевой катастрофой. Запасов нижней и другой одежды в то время не имелось.
Мама же, по совету знакомых, обошлась единственной процедурой по методу ветеринарного проф. М. П. Демьяновича, разработанному, как я теперь узнал, в 1934 году для лечения лошадей и коров. Известно, что чесотка вызывается микроскопическим клещом, который буравит кожный покров, скрываясь в недоступных для прямого воздействия сверху ходах.
Процесс своего лечения помню хорошо. Я стою в тазу на табуретке в кухне. Мама натирает меня раствором, который, высыхая, покрывает кожу серебристым налетом. Впоследствии я узнал, что это был гипосульфит (принятое в фотографии название кристаллогидрата тиосульфата натрия), известный среди фотографов многих, в том числе и моего, поколений, как закрепитель для фиксации обработанных проявителем негативов (пленок и стеклянных пластинок), а также позитивов (фотографий).
Этап второй. Мама наносит поверх высохшего гипосульфита жидкость, которая соединяясь с белым налетом, порождает жуткую вонь. Правда, никаких болевых ощущений не возникает. Жидкость представляет собой 10 %-й раствор соляной кислоты, которая вкупе с гипосульфитом выделяет сернистый газ. Примененное «химическое оружие» напрочь убивает чесоточных клещей прямо в их убежищах. Больше о чесотке я не вспоминаю.
Наше меню военного времени припоминается в общем. В число деликатесов входили жареная картошка, чуреки, горбушка хлеба, натертая чесноком. Блюда из тыквы удовольствия не доставляли. Только в зрелые годы я признал этот овощ диетическим продуктом. Лакомством был варенец с коричневой пенкой, который мама приносила по воскресеньям с базара в пол-литровой банке. Помню американский яичный порошок в украшенных флагом США картонных коробках, сходных по форме, размерам и консистенции с упаковками нынешних стиральных средств. Этот деликатес получили по продуктовой карточке. Из него готовили подобие омлета. Высыпанная в рот ложка этого порошка надолго цементировала язык.
В весенний рацион заводчан и станичников разнообразился вареной черемшой с постным маслом. Растение собирали в лесу. Этим яством я угощался в семьях друзей. Мама не готовила черемшу ни разу, так как по причине чрезвычайно острого обоняния не переносила запах отвара этой разновидности чеснока, происходящего из благородного семейства лилейных.
Необыкновенная чувствительность к запахам сохранилась у мамы до конца дней. В одних случаях это воспринималось это как наказание. В других – способность к распознаванию запахов давала преимущество. Например, на рынке мама до конца жизни безошибочно отбраковывала по запаху овощи, выращенные с избыточным применением химикатов. В случаях, когда возмущенные продавцы пытались опровергать результаты «инспекции», она, потерев клубни друг о друга, сообщала к тому же вид удобрения или гербицида.
В 40-х годах, во время походов за дровами в лес, мама безошибочно оповещала спутниц о приближении скрытых пригорком или деревьями тогда еще не выселенных чеченцев. Об этом говорили участники топливных экспедиций. В этих случаях, поясняла мама, исключительных способностей не требовалось. Чеченцы, по словам мамы, обрабатывали одежду защитным составом на основе прогорклого подсолнечного масла, тошнотворный запах которого дополнялся застарелым потом и ощущался за добрую сотню метров.
Из еды в детском саду запомнились преимущественно два блюда: ежедневный борщ из опостылевшей кислой капусты и тот же овощ в тушеном виде на второе. До отмены хлебных карточек в 1947 году посетители приносили в детский сад хлеб из дома (если он имелся). Затем этот продукт стал выдаваться без ограничений. Ежедневно перед обедом, несмотря на попытки уклониться, детей заставляли выпить обязательную столовую ложку входившего в рацион рыбьего жира (витаминов Е и Д). На третье были компот из сухофруктов или «чай» из кипятка, закрашенного жженым сахаром.
Добывание «подножного корма» для общего стола поощрялось поварихой и воспитателями. Весной во время прогулок мы собирали свежую крапиву. Для поддержания соревновательного духа повариха Карамушкина взвешивала плоды трудов на кухонных весах и громко объявляла результаты каждого. Однажды, возвращаясь на обед с прогулки у курганов, наша группа обнаружила в луже на дне временно перекрытого ерика, проложенного вдоль поля опытно-селекционной станции, с десяток рыбин. Вытащить их руками из глинистой скользкой мути удалось не сразу. Одну поймал и я. Улов был незамедлительно поджарен Карамушкиной, поделен и подан в качестве дополнительного обеденного блюда.
Повариха Карамушкина не только готовила и подавала еду, но и обучала нас основам поведения. Однажды ее возмутил негромкий пук, изданный кем-то из сидевших за столом. Несмотря на требование, виновник не объявился. Тогда повариха, наклонилась к скамье, быстро провела носом вдоль ряда попок, намереваясь обнаружить посторонний душок. Криминалистическая одорология (учение о запахах) на этот раз оказалась бессильной, и мероприятие завершилось общими поучениями.
Надо сказать, несмотря на вольности и изобретательность в добывании еды, ни одного случая пищевых отравлений в детском саду не было.
С игрушками в детском саду дела поначалу обстояли неважно. Время от времени с завода привозили «кубики» – деревянные обрезки из тарного цеха. Из них, в меру фантазий играющих, складывались различные комбинации. Событием стал изготовленный на заводе деревянный танк на колесиках, с жестяной «броней». Открытая сверху башня имела внутри сидение на одного человека. Деревянную пушку танка отломали в первый же день.
Для развития наших творческих способностей ежедневно проводились занятия по «лепке», изготовлению фигурок животных и людей из добытой поблизости желтой глины. О пластилине в то время не слыхали. Периодически организовывались танцевальные занятия. Их музыкальное сопровождение соответствовало наблюдению Карела Гавличека-Боровского, записанному сотней лет ранее: «За высокою горою низкая бывает. У кого оркестра нету, на губах играет». На губах играли воспитатели. Повариха Карамушкина отбивала такт крышками кастрюль. Этот аккомпанемент воспринимался как вполне естественный.
С песнями было проще. Они разучивались в помещении, а затем исполнялись в качестве строевых по пути на прогулки и обратно.
Из нашего репертуара того времени помню: «Марш трактористов» (Ой вы, кони, вы, кони стальные…); «Где ж вы, где ж вы, очи карие?» (Впереди – страна Болгария, позади – река Дунай. В то время я никак не мог понять, что означает слово «позадирека» и как оно связано с Дунаем). Не очень подходила для пешего строя «Терская походная» (Встань, казачка молодая у плетня, проводи меня до солнышка в поход…). Грустные мысли навевают сейчас слова: «Скачут кони из-за Терека – реки. Под копытами дороженька дрожит, едут с песней молодые казаки, в Красной Армии республике служить».
Никуда молодые казаки уже не скачут, как говорят в Одессе. Итогом русофобской политики властей, умышленно подставлявших в 20-е годы безоружных казаков с семьями вооруженным бандитам с гор, а затем продолживших черное дело тихой сапой при Хрущеве, отдавшем в 1957 году Чечне два района Ставропольского края, населенных русскими, стал факт: нет казаков на Тереке. Чеченцы там живут. А станица Ассиновская, основанная русскими, теперь называется Эхой Борзе.
Творческие успехи мы демонстрировали даже на сцене заводского клуба-столовой. Накануне какого-то Нового года я, в качестве представителя младшей группы, декламировал краткий стишок о мухе и варенье и танцевал в костюме Деда Мороза. Танец заканчивался демонстрацией усталости и умышленным падением на пятую точку. Оба номера были встречены аплодисментами. Никакого волнения перед выходом на сцену у меня не было.
Игрушки к Новому году готовились собственными силами детей под руководством воспитателей (их было двое). В качестве материалов использовались бумага, акварельные краски, смоченная в сахарном сиропе вата, высушенная и покрашенная после придания ей различных форм, яблоки, а также завернутые в фольгу грецкие орехи.
Со временем у нас стали появляться фабричные игрушки, кубики с буквами, а в последний год пребывания в саду возник патефон с набором пластинок. Чаще всего детсадовцы просили поставить песню «как матроса замучили» (…Товарищ, не в силах я вахты стоять…). Году в 1952, в детсад привезли пианино, на котором играла молодая воспитательница Валентина, наша новая соседка по коммуналке. Валя с напарницей, осетинкой Фатимой, а приехали после окончания педагогического училища и заменили наших прежних воспитателей-самоучек. Валя не возражала, если я по пути из школы иногда заходил в детский сад послушать ее игру на этом инструменте.