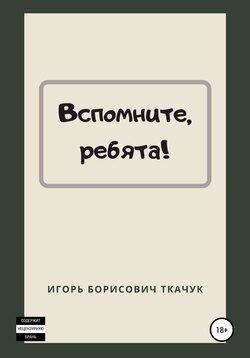Читать книгу Вспомните, ребята! - Игорь Борисович Ткачук - Страница 6
Часть первая
Детство и школа
Возвращение эвакуированных, денежная реформа и отмена продуктовых карточек
ОглавлениеВременами времени в нашем поселке появлялись новые, не похожие на окружающих люди. Однажды «белом доме» поселился чех со странной фамилией Ваш, предмет детских розыгрышей на тему «Ваш дядька».
Сразу после окончания Войны в заводском общежитии периодически останавливались партии эвакуированных, возвращавшихся из-за Каспия вглубь России, а то и за границу, в Польшу. Директор завода лично ездил на станцию и приглашал проезжающих поработать в течение сезона, а заодно вволю поесть овощей и фруктов. В отличие от консервов, на «разъедание сырья» администрация смотрела сквозь пальцы. Какое-то время одну квартиру «красного жилдома» занимала семья польских евреев с длинными пейсами, в широкополых черных шляпах. Вечерние моления иудеев в комнате первого этажа слышались во дворе через открытые окна. Среди этих экзотических людей вертелся мальчик Шмуль. Он был старше меня по возрасту на пару лет. Еврейская бабушка звала мальчика домой протяжным криком: «Шмилькэ-лэ!». Шмуль запомнился по совместным играм и жестокому розыгрышу с участием старших ребят. По первоначальной задумке это была игра «в пиво», которая заключалась в коллективном наполнении стеклянной банки мочой. Цвет и пена получились вполне похожими. На этом развлечение следовало считать завершенным. Однако, когда к играющим подошел не догадывавшийся о сути происходящего Шмуль, у участников действа неожиданно возникла идея продолжить спектакль с участием «дядек, которые пьют пиво». На вопрос, будет ли «дядя Шмуль» пить пиво, мальчик ответил утвердительно. Правда, демонстрация умения не состоялась. Когда жертва обмана поднесла банку к губам, из окна коммунальной кухни раздался отчаянный крик бабушки: «Шмилька-лэ! Не пей! Это сцаки! Сцаки!». Не думаю, что со стороны затейников развлечения это был акт жестокости или недоброжелательности. Скорее, так проявлялось продолжение игровых фантазий. Выдумки сверстников реализовывались в самых неожиданных формах. Однажды ребята из младшей группы детсада уложили на траву ощенившуюся дворняжку, по имени Кукла, и усердно вытягивали губами молоко из ее набухших сосков.
И все-таки, несмотря на очевидную нелепость некоторых ситуаций, наши игры были своеобразным средством адаптации к окружающей действительности. Правда, подражая взрослым, мы не всегда осознавали драматизм событий. Запомнилась антипедагогичная игра на тему: «Давай, ты будешь в тюрьме, а я принесу передачу». Как правило, «передавался» «табак» из перетертого сухого листа подсолнечника.
Порой как игра воспринималась и вовсе трагическая ситуация. Летом 1946 года пьяный казак на свадьбе убил ударом топора мужа маминой подруги Василия Сети (больше людей с такой фамилией я не встречал). Мы с Юрой Байтманом играли в похороны, украшая голову лежавшего на кровати дяди Васи, собранными полевыми цветами. Понятие смерти и расставания навсегда в тот момент было еще за пределами нашего жизненного опыта.
Иногда неприятные последствия некоторых «игр» приходились и на мою долю. Однажды зимой я впервые появился у подъезда дома в офицерской шапке-ушанке из белой овчины. До этого за неимением мужского головного убора приходилось пользоваться маминым шерстяным платком. В упомянутой шапке, привезенной с фронта Михаилом Александровичем Виноградовым, раньше щеголяла его дочь Мила. Мне головной убор достался в результате обмена на мамин платок. Увы, первый выход во двор в офицерской шапке обернулся для горькой обидой. Несколько ребят старшего возраста, притворно восторгаясь моим «военным» видом, предложили надеть на шапку услужливо протянутую красноармейскую каску. Я с готовностью согласился, не обратив внимания на внутренность шлема, покрытую липкой массой. Как выяснилось позже, предмет амуниции использовался в качестве емкости для отработанного автола. В результате моей доверчивости шапка мигом потеряла щегольский вид. Отчистить смазку не удалось. Но и другого головного убора не было. Пришлось носить такой. Окружающие на подобные мелочи не обращали внимания. Окружающие ходили, в чем придется. Одна группа эвакуированных женщин выделялась экзотической одеждой – платьями из американских мешков для сахара. Их платья (очевидно, единственные) и белье, помещенные в «вошебойку» – специальную камеру для прожарки, сгорели по недосмотру разгильдяя – прожарщика, пока они мылись в душе. Выйти из санпропускника без одежды пострадавшие не могли. Проблема разрешилась смелым для того времени распоряжением директора. Со склада принесли упомянутые мешки, которые тут же превратились в балахоны с прорезями для головы и рук.
Другое смелое распоряжение директора однажды чуть не обернулось неприятностями для него и моей мамы. Речь шла о решении выдавать кочегарам котельной мясные консервы, остававшихся в банках после взятия проб на бактериологический анализ. Банки числом 5 штук поступали в лабораторию из каждой выпущенной за смену партии. Кто-то донес «органам» о фактах «разъедания» продукции. По установленному порядку содержимое банок после взятия нескольких граммов проб подлежало уничтожению. К счастью, прокурор проявил снисходительность и понимание ситуации. Практика выдачи дополнительного питания работникам тяжелого физического труда продолжилась.
В последний детсадовский год произошло два памятных события: денежная реформа 1947 года и отмена продуктовых (хлебных) карточек.
Замену денежных знаков я воспринял, как исчезновение зеленой трехрублевки с изображением пехотинца и синей «пятерки» с летчиком. Нас с мамой, конфискационные механизмы денежной политики не задели, поскольку, не имея минимальных накоплений, мы жили «от зарплаты до зарплаты». Все наше «состояние» заключалось в облигациях» Государственных займов восстановления и развития народного хозяйства СССР» 1946 и 1947 годов (со сроком погашения 20 лет), на которые инженерно-технический персонал и рабочие завода подписывались «добровольно»[5].
В те же облигации по «почину» неизвестных энтузиастов обратились также и перечисленные государством на счет Сбербанка (без права снятия), денежные компенсации мамы за 4 отмененных отпуска военной поры. Надо сказать, что упования на возврат заемных денег у большинства окружающих отсутствовали изначально. Об этом можно было судить по тому, что облигации внушительного номинала широко использовались в наших детсадовских играх.
Выплаты по этим государственным обязательствам впоследствии неоднократно переносились «по инициативе миллионов советских людей» (см. доклад Хрущева на 21 съезде КПСС). В итоге астрономические для нас суммы, зафиксированные на красивых бумажках, были деноминированы, и в конце 60-х годов мама получила за все про все около 100 рублей. Ее месячный оклад в то время составлял 120 рублей.
Однако судьбу наших близких друзей реформа исковеркала самым жестоким образом. В лаборатории завода работала мамина подруга – бактериолог Елизавета Антоновна Эриксон, соседка Жангуровых, одинокая деликатная женщина с гимназическим образованием, читавшая на досуге толстенные романы на французском языке. Во время командировок мамы в трест она опекала меня по очереди с женой Кузьмича, Марией Павловной. Родная сестра Елизаветы Антоновны, имени которой вспомнить не могу, была директором Ассиновской опытно-селекционной станции (ОСС) и жила в служебном помещении этой организации. Откуда и при каких обстоятельствах сестры появились в наших краях, не известно. Об их родословной тоже ничего сказать не могу. Иногда мы ходили к сестре Елизаветы Антоновны в гости. Я любил играть с ее овчаркой, которая однажды здорово укусила меня из-за небрежного обращения со щенками. Несмотря на это недоразумение наша дружба продолжалась. Следы укуса сохранились, однако показывать их не рекомендуют правила приличия.
Наши походы в ОСС кончились после приснопамятной реформы. Сестра Елизаветы Антоновны исчезла. Позже, со слов мамы, я узнал о причине происшедшего. Один из сотрудников станции накануне реформы вернулся с Севера, где в течение нескольких лет зарабатывал деньги на приобретение (или строительство) собственного дома. Его «северные» доходы по условиям реформы должны были превратиться в прах.
Горько жалуясь на злую судьбу, коллега упросил сестру Елизаветы Антоновны обменять накопления на пореформенные рубли из расчета один к одному (вместо одного к трем) под видом средств ОСС. В операции участвовала кассир станции, которая незамедлительно сообщила «куда надо». Сестру Елизаветы Антоновны и ее соучастника осудили на 10 лет лишения свободы каждого. Дальнейшая их судьба не известна.
Отмена карточек, ознаменовалась появлением казенного хлеба в детском саду. Отныне продукт можно было есть до отвала. С этого же времени хлеб потерял качество платежного эквивалента при обмене на другую еду и игрушки.
5
В расчетной книжке мамы за 1952 год имеются записи о размере оклада в сумме 980 рублей и ежемесячном отчислении на заем суммы 140 рублей. Подоходный налог колебался от 85 руб. 38 коп. до 167 руб.67 коп.