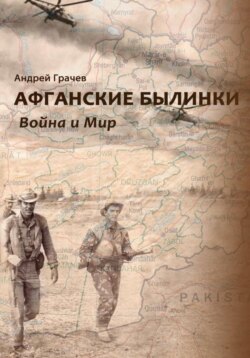Читать книгу Афганские былинки. Война и мир - - Страница 10
Часть I. Война
Хор имени Пятницкого
ОглавлениеПосле выезда, едва выбравшись из палаток, образцово-показательный полк стремительно преобразился. Некому стало показывать, пылью покрылись образцы. Вырвавшись из гарнизона, всё стало принимать свой обычный, походный вид и входить в нормальную колею. С автоматов свинчивались для удобства приклады, к уставным штанам присобачивались вместо заплат неуставные карманы. Неуклюжие, тяжёлые подсумки сменялись самопальными «лифчиками», мобуты – кедами, и все, поголовно все оказались бородатыми.
Бриться было и нечем и некогда. Воду за полком тащили на водовозке и выдавали по фляге в день: хочешь пей, хочешь брейся, и больше хотелось пить. Обросший, бородатый комбат стал удивительно похож на царского полковника. Курчавый Миносян разросся так, что старшина уже дважды угрожал побрить его штык-ножом. Какое-то время держался ещё замполит. Дня три он ходил только слегка небритым и жужжал на привалах механической бритвой «Спутник». Но бритва была отечественной, «Спутник» на четвёртом привале сломался, и замполит молниеносно оброс.
– Сломался, сломался замполит! – ликовал личный состав и, воодушевлённый поломкой, внешний вид запустил окончательно.
Могучей щетиной покрылся Косаченко. Безобразными островками заколосился Линьков. На людей стали похожими все дембеля и даже некоторые из молодых, а у Корнюхина не росло. Под носом ещё туда-сюда, а на подбородке ни грамма. И уже неделя прошла, и другая, а у него не росло. Раздражение росло и расстройство чувств. И Лёшка прыгал в расстройстве на чью-нибудь подножку, заглядывал в зеркало заднего вида и содрогался, – вид безобразный: уши, щёки и нос. И хоть бы чепуховина какая выросла не щеках, хоть бы чего приросло под носом, так нет. Три волоска в два ряда и четвёртый с краю. И каждый день доставал Лёшку замполит:
– Ну, хоть один на человека похож! – радовался он.
И мужики добивали:
– Человек… – разглядывали они и удивлялись, – гляди, похож!
И чем дольше это безобразие тянулось, тем больше он чувствовал себя непохожим, и, что самое противное, другие чувствовали. Обманутые внешней молодостью танкисты запахивали чистить ствол. Дембель из девятой роты норовил послать за водой. И Лёшка посылал за водой дембеля, и тут же у ствола раскрывал танкистам обман, но обман не раскрывался.
Лейтенант оглядывал с тоской взлохмаченный взвод и печально просил:
– Корнюхин, хоть ты, что ли, за водой сходи…
Потому что за водой нужно было проходить мимо штаба, а у всех борода, которую комбат разрешал только себе, и у штаба он его неизменно замечал:
– Ну вот, внешний вид! А вы – условия, условия…Плохому солдату война мешает!
И, чувствуя себя хорошим, Лёшка невыносимо страдал, тем более, что комбат, насмотревшись на него, выбрил личным «Брауном» всех штабных, а мимо штаба приходилось ходить. И ни «лифчик» не помогал, ни кеды, ни хипповое, переделанное из панамы, кепи. Так и мучился. Чтобы хоть как-то успокоиться, пошёл снова к танкистам, но танков на прежнем месте не нашёл, а нашёл десантуру, и тут уже, конечно, расстроился капитально.
Сидел, приложив к глазу гранату и прямо-таки изнемогал. Жить не хотелось совершенно. Да тут ещё мужики, как назло, затеяли фотографироваться всем взводом на фоне гор. Раздобыли где-то фотоаппарат, выставили противно подбородки и принялись зазывать:
– Лёха, айда!
– Корешок, задница прорастёт!..
Но Лёшка в ответ только мрачно сопел:
– Не могу, – глаз!
Потому что истинную причину скрывал, и, чтобы скрыть окончательно, влез на подножку к Дмитренко и зашаркал всухую китайским станком.
– Да хрен с ним, с глазом! Завтра таких четыре набьём, – уговаривали его.
Но Лёшка упёрся – и ни в какую, шаркал мрачно и пучил глаз, так, что многих это даже удивило. И чего он так из-за глаза? Всё равно под грязью не видно. Молчит, сопит и морду скоблит.
– Брось, Корешок! Бабы больше бородатых любят!
И тут уже Лёшка психанул, – его прямо-таки пронзило. Но не сразу психанул, а тактически.
– Ладно, паразиты, побрею я вас! – мрачно решил он. После бритвы стал старательно натираться «Гвоздикой» и поразил всех расчёской, от которой сразу отлетели два зуба, и лёгким облачком поднялась пыль.
– А носки в парфюме замочил? – заинтересовался личный состав.
Но Лёшка не откликнулся и на носки. Извлёк из заначки ослепительную подшиву и хладнокровно прикрыл её свежестью грязь воротника, отчего все завелись уже окончательно – подшива была страшным дефицитом и применялась только в случаях большого начальства и великой радости. Но начальство, вроде бы, отпадало, а последней радостью была сгущёнка, и ту на прошлом привале съели.
– Для кого бигуди? – не выдержал Линьков.
Лёшка неспешно застегнул «хб», помолчал загадочно:
– Для искусства!
И коварно пошёл спать.
И все взволновались, взвод остался с ощущением тайны, и чем больше над ней размышлял, тем крепче становилось ощущение. Ковалёв объяснил, что для искусства – это вроде как для себя, но в «для себя» никто не поверил: для себя Лёшка ленился даже разогреть сухпай. А тут «на человека похож», и, вообще, в последние дни «внешний вид». Кто его здесь увидит? Зачем это надо? Каждый забеспокоился, что, может, и ему надо, а он не знает, и, чтобы узнать, пошли в штаб.
Штабом были два БТРа: один простой, а второй не простой, а «Чайка». К нему и направились. Выставив часового, подошли, поскреблись в броню и остолбенели – из люка выставился на мгновенье сонный и совершенно бритый Морсанов. Одеколоном «Наташа» веяло от него и военной тайной. И тайна раскрылась.
– Юрчик, кого ждём?
– Как это – кого? – удивился он. – Хорымина и Пятницкого.
И все обалдело переглянулись – хор имени Пятницкого! Дышать перестали в принципе. Чтобы переварить, помолчали, а, помолчав, не поверили. Сюда – хор? Да здесь через день штурмовка, через неделю обед. Какой там Пятницкий, – бред! И перевели дух. Но тут из второго БТРа отрывочно донеслось. Комбат устраивал кому-то разнос:
– Артисты!.. Театр!.. Самодеятельность!.. Прекратить!..
И все окончательно помертвели: артисты с театром и какая-то самодеятельность. А из БТРа возбуждённо и громко неслось:
– Циркачи, блин!.. Бригада!.. Согласовать!..
И тут уже задышали:
– Ну, блин, дела!
– То-то Лёха у штаба вертелся!
– Сидят себе, набриваются, а мы не при чём?
И через пять минут ошеломляющая перспектива открылась всем. Батальон возбуждённо загудел:
– Артисты приезжают, циркачи и какой-то хор!
И уточняли:
– Женская труппа! Бригада типа фронтовой!
Ковалёв взахлёб затосковал о театре, Самсонов заспорил, что лучше цирк, и только Корнюхин продолжал спать. Но будить его никто не стал: что нужно делать, знали уже и без него. Скакали зайцами по броне, потому что ходить по обочине запретил сапёр, и меняли лезвия на воду. Но если вода ещё у кого-то оставалась, то лезвий не было ни у кого, а если и были, то за ними выстраивалась такая очередь, что к её концу они становились действительно безопасными. Косаченко, оказавшись шестнадцатым, ревел навзрыд. Миносян начал уже всерьёз присматриваться к штык-ножу. Спарывали карманы, возвращали подсумки, торопливо и наспех возвращались в мирную жизнь. Дневную норму воды истратили полностью, и счастливые, ободранные, принялись ждать.
– Мужики, вы чего? – испугался, проснувшись, Лёшка.
Но до него даже не снизошли: знаем, знаем, мол, можешь не заливать. Глядели в небо, откуда должно было спуститься искусство, и беспокоились, что ему некуда сесть. Но тут сапёры впереди что-то рванули и колонна, лязгнув, пошла и присыпала пылью свежую красоту.
Чтобы не опоздать, воевали наскоро. Наспех взяли какую-то сопку, потом ещё, а третью не взяли и испугались – с сопки работал по «вертушкам» ДШК. Но напряглись и пулемёт сбили. Задыхающиеся, чуть живые, поставили на прикрытие свои, и вертолёт действительно прилетел. Завис на минуту, присел, и из него вывалились два аккуратных, отутюженных майора. Мокрый, полумёртвый от усталости комбат к ним подошёл, и они козырнули:
– Майор Хорымин!
– Майор Пятницкий!..
– С проверкой из штаба армии.
И батальон отвернулся. В тот вечер никто и ничего не говорил, даже Корнюхину ничего. Жевали вяло сухой паёк и понимали, отчего он сухой.
Вечером, когда, наконец, вышли к реке, заговорили:
– Ну, лохи, ну, кретины!
– Чуть не сдох без воды, всю морду себе ободрал!
– Какая сволочь пустила дезу?
И началось следствие. Каждому хотелось эту сволочь найти. У одного погибли в панике дембельские усы, другой располосовал себя так, что до сих пор истекал кровью, и всем хотелось на эту сволочь просто посмотреть. Но всем сразу посмотреть было нельзя. Дознание проводили самые крутые и конкретные дембеля: Федотов из девятой роты, Налейко из восьмой, Ходынин и Корнеев из автовзвода. Поднимали, отводили в сторонку по одному и опрашивали:
– Ты про хор от кого узнал?.. А тебе кто сказал? А он?..
И очень скоро вышли на третий взвод, но взвод железно стоял на своём: деза пришла из штаба. И тут же извлекли из БТРа, и только потом разбудили ни в чём не повинного Морсанова, но тот только выпучил в изумлении глаза:
– Да вы что, мужики? Я сам от девятой узнал!
И круг замкнулся, пришлось всё начинать сначала. Будили, трясли и вытряхивали правду, и к утру снова вышли на третий взвод. Но взвод опять-таки указывал на Морсанова. И тут уже завелись по-настоящему. Неизвестная сволочь снова кинула и выставила лохами лучших людей. Распалились до того, что не сразу догадались спросить, а зачем пошёл к Морсанову целый взвод, и кто первым произнёс это слово «искусство»? Но потом спросили, и правда открылась – Корнюхин. И тут уже его разбудили. Нарочно-ненарочно не разбирались:
– Что, спишь, тварь? А мы вот не спим… Подъём, сейчас деды тебя будут жизни учить!
Лёшка поднялся, оглянулся растерянно на своих, но все крепко и старательно спали. Спал Косаченко, спал Миносян и даже Линьков. Чтобы не шуметь, повели его к внешним постам, и часовые тоже старательно пялились в темноту и ничего не замечали. Только ракеты перестали пускать, чтобы не засветить случайно место суда, поэтому и лёшкиного лица в это время никто не видел.
Били его долго, люто и с наслаждением. За то, что кинул, за то, что поверили, и никто не прилетел. За напрасно потраченную воду и подшиву и вообще за всё. Лёшка, как ни странно, оказался крепким: не оправдывался, не просил. Раза два попробовал даже отмахнуться и не падал, пока не свалили его крепким, кованым ударом в живот. Но и тогда молчал, пускал кровавые пузыри и со странной жалостью смотрел в небо. А на небе уже загоралась заря и розовыми отблесками отражалась в его глазах.
Таким и нашёл его на заре Миносян и испугался неподвижности глаз:
– Да что же это они, а? Ара, ты как?
Но Лёшка и ему ничего не сказал. Поднялся молча и неловко, боком полез на броню. Лицо у него было землисто-бледным, а взгляд тусклым и немножко больным. Но синяков под грязью было не видно, поэтому никто и ничего не заметил. Он только двигался слишком медленно, опаздывал отвечать на вопросы, отставал. Поэтому, когда колонна попала под обстрел, не успел. Спрыгнул неловко с брони, сделал неуверенно два-три шага и упал. Снайпер срезал его, когда все давно и надёжно залегли за скалой. Вытащить его сразу не смогли, и ещё полчаса все смотрели, как он пытается подняться из пузырящейся красной лужи. Потом, когда подошла и прикрыла своей бронёй БМП, его смогли вынести. Отбились кое-как, расчистили пятачок, и комбат заказал вертушку. Вертушка ушла, и все попрятались: в машины, в люки и в свои дела. На колонну как будто опустилась тишина, и ни рёв моторов не нарушал её, ни грохот дизелей. Взорвал тишину комбат. Выскочил на стоянке из связного БТРа с бледным, перекошенным лицом:
– Подонки, сволочи!.. Перевешаю, как собак! Мерзавцы!
И перепуганный Морсанов объяснил:
– Оказывается, пулевое у него туфта, у него три ребра сломаны и селезёнка…
И в звенящем напряжении стал не слышен даже комбат. Курили, молчали и с нарочитой скукой смотрели вдаль. Страшный, трясущийся Миносян пошёл со стволом вдоль колонны:
– Убью, всех убью! – хрипел он.
И, конечно же, никого не убил, потому что убивать бы пришлось действительно всех. Все были виноваты и зависели от того, сдаст их Лёха или не сдаст. Знали, что теперь каждый день будет трясти его особист. А он такой, он вытрясет. И потянулось тяжёлое, томительное ожидание: со дня на день, с часу на час, вот-вот и подлетит особист. Но Лёшка не сдал.
Он лежал в медсанбате и прожигал неподвижным взглядом потолок, как будто дыру в нём хотел прожечь и испепелённое зноем небо. Таким и застал его Миносян и засуетился, выкладывая бахшиш, – пустили его не надолго.
– Виноградик, сгущёнка, халам-балам! – и отдельно от всего положил бережно на кровать кассету. – И вот ещё от мужиков бахшиш…
Но Лёшка на него даже не посмотрел: повернулся, закашлялся и прошептал:
– Федотова… когда вернусь… убью…
И Миносян ответил:
– Не надо, Лёшик, убили его уже…Под Файзабадом в девятой две машины сожгли…
И, неловко цепляясь халатом за углы, вышел.
Лёшка долго лежал неподвижно, потом осторожно задышал, потянулся нетвёрдой рукой к кассете и замер, дожидаясь, когда растает боль. И, когда всё прошло, всё растаяло, всадил кассету в магнитофон и на всю палату, на весь медсанбат величественно и распевно грянул хор имени Пятницкого.