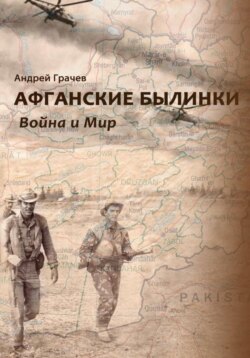Читать книгу Афганские былинки. Война и мир - - Страница 5
Часть I. Война
Пацаны
ОглавлениеПосле обеда навалилась обычная плотная жара. Небо затянулось сероватой дымкой, а каменистая земля раскалилась и послушно отдавала ветру шарики сухой колючки. Третий взвод забился в палатку и, раздевшись до трусов, тихо млел. Время от времени кто-нибудь подходил к баку с питьевой водой и тайком от сержанта Дорошина блаженствовал, поливая себе шею и грудь. Дорошин растрату видел, но не пресекал. Его тоже затягивало в удушливый полуденный сон. Никому ничего не хотелось говорить и тем более делать. Не унимался один только Волошенко, худой, дочерна загоревший одессит. Сливаясь телом с цветом трусов, он лежал по обыкновению на чужой кровати и лениво притравливал анекдоты, – не оттого, что хотелось, а потому, что одессит.
– Слышь, Литкевич, – прервал он вдруг себя, – покажь свою бабу!
Сидевший напротив коренастый молчун перестал рассматривать фотографии и спрятал их в карман «хб».
– Перебьёшься.
Своих фотографий он никому не показывал, и вообще ничего не делал напоказ.
– Покажь, говорю, бабу-то! – не унимался одессит.
– Заткнись! – нахмурился Литкевич. – И она тебе не баба.
– Ну, мадама!
– И не мадама! – совсем помрачнел Литкевич и для прочности надел «хб» на себя.
– Как? – изумился дождавшийся своего одессит. – Так твоя мадама ещё мадемуазель?
Палатка радостно захихикала и, скрипнув кроватями, затаилась. Надвигалась хохма. Литкевич напрягся, мучительно пытаясь выдумать что-нибудь тоже обидное, но так и не выдумал и только медленно побагровел:
– Заткнись!
Волошенко вскочил, придал лицу выражение трогательной честности и, подхватив раструбы огромных трусов, расшаркался в изысканнейшем реверансе:
– Ах, простите! Ах, извините, наступил грубой ногой на нежное место!
Все уже хохотали. Дневальный, появившийся на пороге, улыбался, ещё не зная чему, но на всякий случай. Даже зачерпнувший было воды Дорошин не удержался и булькнул в кружку. Литкевич оглянулся беспомощно, обречённо вздохнул и, развернувшись, двинул насмешника прямым слева. Получилось без изысков, но сильно. Звон затрещины раскатился по палатке ударом грома. Волошенко отлетел в сторону, вскочил, осовело хлопая глазами, и вдруг, взвизгнув, рванул из ножен дневального штык-нож так, что ножны на ремне бешено завертелись, и, трепеща по воздуху трусами, ринулся на врага. Литкевич перехватил его табуретом. Брызнули щепки. Нож, звякнув, завалился за кровать, и оба, сцепившись, всё круша и переворачивая на пути, покатились по полу.
Противников растащили.
– Лажа! Из-за бабы драться!.. – объявил Дорошин с презрением.
Но без всякой пользы.
– Сволочь! – Злобно таращился из своего угла Волошенко.
Нос его был разбит, а скула посинела.
– Сам сволочь! – с не меньшей злобой шлёпал разбитой губой Литкевич.
– Убью я тебя, гад! – ненавистно шипел Волошенко.
– Я тебя сам убью! – твёрдо обещал Литкевич.
Их кое-как развели и к приходу ротного навели порядок, но полного порядка навести не удалось. Весь день противники после этого старательно друг друга обходили, но, встретившись случайно, снова раздувались от злобы и готовы были сцепиться, так что между ними постоянно приходилось дежурить кому-то третьему. А вечером роту подняли по тревоге и бросили на дорогу вытаскивать застрявшую в «зелёнке» колонну.
Рассадив драчунов по разным машинам, Дорошин устроился на головной и для порядка поглядывал всю дорогу назад. Литкевич сидел позади с видом гордым и независимым, а Волошенко, выказывая полное презрение к миру, и вовсе забился внутрь. Остальные курили и сокрушались по поводу последнего разгрома футбольного отечества. Прошёл слух, что проиграли то ли португальцам, то ли полякам.
Ветер сгустился, ударил в лица знакомым солярным смрадом, и за поворотом показались, наконец, горящие костры наливников. Получив по рации установку, БТРы веером развернулись на дороге и с ходу вломились в виноградник. Все горохом посыпались с брони и неровной цепью полезли наверх. Виноградник и пять-шесть домов рядом рота взяла под себя легко, но на пустом кукурузном поле, сплошь утыканном кочерыжками стеблей, попятилась, залегла и скатилась в сухой арык. Плотный огонь из-за мощного крепостного дувала заставил её залечь.
– А, вот я их! – проворчал ротный капитан Шевцов и хищно клюнул в рацию носом.
И тут же парами кружившие над дорогой вертолёты перестроились в круг. Фыркнули ракетные залпы, бомбы ухнули так, что вокруг арыка растрескалась сухая земля. И вдруг все увидели, как из последнего, самого ближнего к дувалу дома густо повалил оранжевый дым, – свои.
– А, дьявол! – ругнулся капитан и дал вертушкам отбой. – Кого туда чёрт занёс?
По роте пробежала молниеносная перекличка, и Дорошин похолодел, – чёрт занёс туда Литкевича и Волошенко. Эти двое отойти вместе со всеми не успели, а вытащить их было нечем.
Целый час пехота не могла поднять головы и только наблюдала за тем, что происходит между крепостью и домом. А события там разворачивались интересные.
Заметив оранжевый дым, крепость изо всех сил старалась неудобного соседа выжить. Дом в долгу не оставался и огрызался так плотно, что шум стоял за целую дивизию. Несколько раз там что-то оглушительно взрывалось. Дом обрушивался целыми стенами, затихал, но потом снова принимался бодренько потрескивать автоматами. Прислушиваясь к этому треску, Дорошин пытался понять, из скольких стволов работает дом, и, если казалось, что из одного, покрывался холодным потом. Он места себе не находил, грыз без нужды бесполезного снайпера Гилязова, и в голову ему лезли нехорошие мысли.
– Не боись, им трактор мозги не ездил! – успокаивал его Гилязов, но не слишком уверенно.
Все понимали, что более подходящего случая для «тракторов» и быть не может, а мозги у обоих явно набекрень.
Наконец подоспевшая с горки десантура навалилась на «зелень» сверху, и вдоволь належавшаяся рота разнесла крепость в пыль. Дорошин вломился в дом первым. Высадив дверь плечом, он влетел по осыпающимся ступенькам, и, прокатившись с ходу на куче стреляных гильз, рухнул на пол. Ветер гонял по комнате вонь пороховых газов и смятые патронные пачки. Чумазый, оборванный Волошенко сидел по-турецки на полу и набивал магазины. Засыпанная патронами каска раскачивалась перед ним, и крыльями развевались при каждом движении клочья разодранного маскхалата. Не менее грязный Литкевич стоял у обрушенного окна и контужено зевал.
– У-у-у, гад!.. – урчал кошачьим, нутряным голосом Волошенко, щелчком загоняя патрон.
– Сам гад! – свирепо скалился в зевоте Литкевич.
– Морда тамбовская! – клокотал Волошенко.
– Сам морда! – немедленно отзывался Литкевич.
Дорошин с кряхтением поднялся.
– И не надоело вам? – ухмыльнулся он, растирая ушибленный бок.
– А ты чего прискакал? – мигом развернулся к нему Волошенко. – Вали, пока не навешали! – и угрожающе засопел.
– Да ну? – не поверил сержант.
– Морда! Три лычки! – подтвердил от окна Литкевич.
И, засопев носами, оба недружелюбно надвинулись на сержанта. И ростом, и сроком службы Дорошин был выше, но тут от неожиданности попятился и только головой покачал:
– Идиоты! – сказал он сердито.
Вытолкнул из дверей подоспевшего Гилязова и побежал догонять своих. Новый их взводный всего третью неделю привыкал к жаре, и без своего заместителя нервничал.
А ночью Дорошина разбудила хлопнувшая дверь. Он открыл глаза, долго всматривался в темноту, и среди смятых простыней и голых пяток разглядел, наконец, две пустые кровати. Не спалось, конечно, Литкевичу и Волошенко.
– Ну, блин!..
Дорошин беспокойно поднялся, сунул ноги в ботинки и, шлёпая по полу шнурками, вышел.
Было тихо. Дремал под грибком дневальный, налитая, полная луна зависла над ним, и заскучавший на дальнем посту часовой пытался дотянуться до неё беззвучными малиновыми трассерами. Дорошин обошёл палатки, заглянул за каптёрку, и, поднявшись на невысокий каменный завал, замер. Удивительная картина открылась перед ним. Внизу, в клубах фантастической лунной пыли катались по земле и добросовестно молотили друг друга двое. Лунным светом лоснились животы, влажно мерцали потные спины, и только натруженное сопение нарушало необычную тишину.
Дорошин постоял, подумал, и в той же беззвучности спустившись с завала, вернулся к палаткам. У грибка дневального он остановился закурить. Дневальный прислушался.
– Что там? – спросил он тревожно, качнув стволом в сторону завала.
– Порядок, – отозвался Дорошин не сразу.
Докурил в две затяжки сигарету и вернулся к себе.
В палатке он долго не мог уснуть, ворочаясь и наматывая на себя горячую простыню. Наконец, задремал и сквозь сон услышал, как мимо палатки прошли, тихо переругиваясь и шмыгая разбитыми носами в сторону умывальника двое.
– Гад!
– Сам гад!
– Всё равно я тебя убью!
– Я тебя сам всё равно!..
– Пацаны… – пробормотал Дорошин, и уснул вдруг так крепко и безмятежно, как не спал ещё ни разу с начала своей войны.