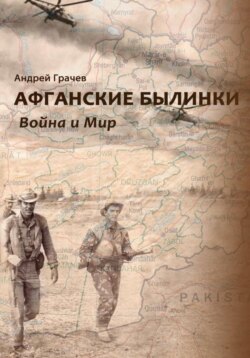Читать книгу Афганские былинки. Война и мир - - Страница 2
Часть I. Война
Блокнот (расказ)
ОглавлениеЧего только не бывает в жизни, даже хорошее. С утра разносил комбат, в обед долбил замполит, а вечером завезли кино. Потрясающее – «Москва слезам не верит». Все, кто загремел в караул, застонали, остальные радостно засуетились и выслали молодых занимать места. Один только Юрка Ковалев не суетился, сел за тумбочку и стал в блокноте что-то писать. Блокнот был маленьким, писать приходилось еще мельче, поэтому разобрать чего он пишет, было нельзя, а хотелось. И любопытный Шурка Линьков спросил прямо:
– Чего пишешь?
– Да так… – неопределенно ответил тот, – про все.
– Про что про все?
– Да про это…
– Ух, ты! – догадался Линьков и зауважал. – Писатель…
И ничуть не удивился, – возможно. Ковалев всей роте письма писал. Ляжет, уставится в потолок и произнесет: «Диктую!» И дальше только за ним поспевай. И до того складно, до того красиво, сдержанно, вроде, но так, что за душу берет и после не отпускает. Переписываешь набело, и от жалости к себе сердце заходится. Некоторые эти письма и не отсылали. Перечитывали в карауле и начинали как-то себе нравиться, отчего-то себя уважать. А когда Юрка не диктовал писем, писал в блокнот, и блокнот этот всегда носил при себе. К нему приставали от скуки: «Прочитай!» И он иногда читал. Но ведь он что делал, козел? Шпарил без запинки и с выражением «Агрессивная суть блока НАТО», а на странице было совсем другое. Линьков подглядел однажды и сейчас приставать не стал. Шмыгнул уважительно носом и потопал в кино.
Кино получилось веселое. В конце первой серии, когда Родик укладывал Алентову на диван, по КПП ударили из гранатомета. Весь мужской контингент от облома взвыл. Дежурная рота сбегала пострелять, и кино все-таки продолжилось, но уже сразу со второй серии, что было значительно хуже. Поэтому в палатку Линьков вернулся без настроения. Залез к себе на второй ярус, и, задумчиво поскрипев пружинами, свесился вниз.
– Слушай, Юр, а целуются в кино по-настоящему?
– Не знаю, не пробовал, – буркнул тот.
– А почему же тогда так по-настоящему продирает?
– Это и есть искусство, когда настоящего нет, а пробирает. Надо только, чтоб пробирало по-настоящему.
– Дурак, – влез, как всегда, Поливанов, – а убивают в кино тоже по-настоящему? – и рассмеялся.
Но Поливанов что? Он только анекдотов навалом знает, а Ковалев – голова. У него такое в голове, такая пропасть! Шурка лежал с ним однажды в охранении – за перевалом пасли «зеленку», – так за ночь столько от него узнал, что потом два дня спать не мог. И про звезды, и про войну, и даже про Александра Македонского. Он потому и место себе выбрал на верхотуре, чтобы к нему поближе. Несолидно для «черпака», зато всегда можно свеситься и спросить. Но сейчас все его расспросы прервал ротный:
– Отбой, Линьков! – вмешался он. – У тебя завтра выезд.
И выключил свет. Но Шурка долго еще отключиться не мог. Лежал, ворочался и скрипел. Из головы не выходила «Москва», – почему «не верит», почему «в слезах»? И только когда снова грохнуло на КПП и привычно затрещало со всех постов, заснул.
А утром осторожно, чтобы не разбудить Ковалева, поднялся, взял в оружейке автомат и пошел с ребятами на КПП. Пока ждали БТР, смотрел, как закрашивают на воротах копоть. Дневальные спешили до подъема, потому что днем нельзя, а вечером без этого не сдать наряд. Дырки там, пробоины, куда ни шло, а копоть извольте закрасить.
– И чего, дураки, на КПП лезут? – посочувствовал Шурка. – Здесь на метр полтора ствола и все спаренные. – Но, вспомнив, что наряд будет принимать как раз Ковалев, указал:
– За окном побелите, черное!
И порадовался за себя. Вчера он за две сгущенки записал себя вместо караула на выезд. Выезжали за водой на скважину, тоже не бог весть какое путешествие, но все равно, веселее, чем караул.
И точно, повеселились. На обратном пути из «зеленки» шарахнули из ДШК. По броне как булыжниками простучало, но размениваться с паразитом не стали, сдали пушкарям. Пропустили вперед водовозку и на полном ходу проскочили. И хорошо еще, Поливанов углядел, – хлестало из водовозки, как из ведра. Пробоины, как могли, заткнули тряпками и вернулись в полк. Воды, правда, довезли половину, но зато быстро. Дежурный на боковую еще не завалился, и, сдав ему автомат, Шурка заспешил в палатку. Нужно было срочно предупредить Ковалева, что стена на КПП не забелена и наряда в таком виде не принимать. А то ведь он хоть и голова, а с ушами. Примет по доброте, а у него нет, и будет потом расхлебывать за них, простота.
Но спешил Шурка совершенно напрасно: Ковалев, накрывшись с головой, спал. Дневальный из молодых разбудить его не решался, а ротный в палатку не заходил. И, сорвав с него одеяло, Шурка за дневального заорал:
– Подъем, жор проспишь!
И осекся. Ковалев был мертв, подушка была вся бурой от крови, лицо наоборот, белым, а в брезентовом полотнище у изголовья просвечивала крохотная дыра. Шурка шагнул назад, натолкнулся спиной до дневального и дальнейшее уже слышал плохо.
Пришел начмед, потом комбат и незнакомый из особого отдела майор, и началось то ли дознание, то ли что.
– Шальная… – заполнял майор. – Между одиннадцатью тридцатью и двенадцатью ночи… Входное отверстие соответствует…
«Это когда я про «Москву» думал, – соображал Шурка, и странно так соображал, отчетливо. – И он лежал так всю ночь, и утром лежал. И когда я боялся его разбудить…» И ещё поразило, как невозмутимо спокойно осталось все кругом.
За обедом обедали, за ужином ужинали. Ели без аппетита, но ели, разговаривали тихо, но не о нем. Дорошин внизу скатал матрац и унес в каптерку.
– Теперь твоя.
Потом злее обычного пришел замполит и стал собирать из их тумбочки юркины вещи.
– Мыльница его?
Шурка кивал.
– Зубная щетка чья?
– Тоже…
– А блокнот?
И Шурка неожиданно испугался:
– Мой.
Любые записи и заметки для памяти были строжайше запрещены. Блокнот до юркиных не дойдет. Замполит недоверчиво на него посмотрел. Но блокнот был не подписан, почерк неразборчив, и он его отложил. И Шурка облегченно вздохнул, прибрал его и быстренько после замполита отбился. Но юркиного места отбивать не стал, – полез к себе. Лежал, и, прислушиваясь к себе, недоумевал.
Получалось так, как говорил Юрка. Не было его в настоящем, не существовало, а пробирало. И пробирало так, что он вроде бы существовал. И хотелось все время свеситься вниз. И выждав, когда рота заснет, Шурка без единого скрипа поднялся, притащил на тумбочку переноску, которую Дорошин приспособил под настольную лампу, и, завесив её штанами, приступил. Не задумываясь, не подбирая слов и прямо с того места, где обрывалась строка. Места в блокноте оставалось много, но писать так же мелко он не умел и поэтому экономил. Писал, шмыгая носом, и выводил неуклюжие буквы. Он хотел, чтобы пробирало, чтобы верили и по-настоящему.
– Пишешь? – свесился к нему Поливанов, посмотрел задумчиво в потолок и неожиданно попросил:
– Напиши, как мы тогда с танкистами подрались, и он за меня вписался.
– Про то, как он мне на «губу» сгущенку принес! – попросили справа.
– И про письма!
И со всех сторон вдруг посыпалось:
– Про то, как он вместо «Боевой листок» «Боевой свисток» написал!..
– И про рейды!
– И про кино!..
– И про то, как мы на скважину ездим и вообще!..
Все вокруг заскрипело, придвинулось и ожило. Уцелевшая от караула рота наперебой диктовала, и Шурка едва за ней поспевал. Строчил, дул на пальцы и снова строчил. Рота охала, вспоминая, смеялась до слез и сухими глазами плакала. Всем было грустно и отчего-то пронзительно хорошо. Никто не слышал ни стрельбы, ни грохота КПП, ни шального свиста над головой. И когда в палатку вошел для подъема ротный Фомин, все спали вперемешку на чужих местах, Линьков за тумбочкой сопел в блокнот, а на переноске тихо занимались штаны. Фомин их осторожно убрал, пролистал блокнот и на середине с удивлением остановился. Сразу после мельчайшего бисера было неумело и старательно выведено: «Блокнот», а чуть ниже, коряво, но с тою же твердостью Линьков написал: «расказ».