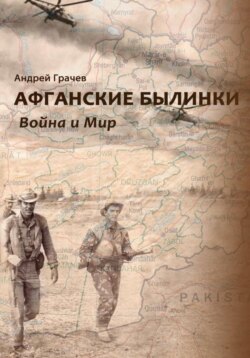Читать книгу Афганские былинки. Война и мир - - Страница 8
Часть I. Война
Письмо
ОглавлениеНа марше, когда ничего хорошего уже и не ждали, неожиданно подвалил бахшиш. Бахшиш прихватил из полка Кременцов. Вывалился из попутной «вертушки», кошкой, чуть не на ходу взлетел на броню и весело заорал:
– Не ждали, гады? Службу забыли? По караулам соскучились?
И вывалил в люк сгущёнку, взводному «Яву», а остальным целую гору «Охотничьих». Все радостно засуетились:
– Валерка, гад!
– Удрал-таки, вырвался?
– Отыскал?
У него всегда и для всех что-нибудь находилось: сгущёнка, сигареты или просто привет. Такой уж он был человек, – приветливый. А Голованову прихватил письмо. Показал краешком «авиа»:
– Танцуй!
Сам же за него на броне станцевал и рухнул в люк, куда его утащили за ноги рассказывать новости. Все завистливо застонали:
– О-о-о!..
Помучили для порядка и письмо через час отдали. Но Голованов своим счастьем делиться не стал, потому что не такой был человек, а наоборот, – застёгнутый, как бронежилет. Говорил мало, думал много и писем вслух никогда не читал. А хотелось. Всех давно уже разбирало, почему другим уже через полгода писать перестали, а ему нет? И писали ему на зависть часто, всегда одним и тем же почерком и, очевидно, о чём-то важном, потому что он после этого ходил загадочный и серьёзный. И что характерно, всегда «авиа», всегда на роскошной бумаге, и благоухала эта бумага так, что принюхиваться к ней сбегались всем батальоном, и с изумлением убеждались, – духи. И каждый раз спорили, что вот это письмо – последнее. Но проходила неделя, и почтари уже с КПП кричали:
– Голованову!
Сгущёнку проигрывали из-за него ящиками и систематически приставали:
– Ну, прочитай, что тебе!.. Ну, тогда про себя, а мы просто на твою морду смотреть будем!
Но ни на морду, ни намекнуть Голованов не соглашался, потому что при других стеснялся даже про себя.
– Вот и сейчас сунул конверт под бронежилет и от смущения скомандовал:
– Пасите зелёнку, ироды! Дувалы пошли.
Хотя командовать не любил, да и лычками особо не вышел. Всего и старшего, что стрелок. Глянул искоса на смешливые рожи и в надежде на виноградник замкнул. В колонне уже вовсю высвобождали под виноград патронные цинки и предвкушали, каким получится из него вино. Миносян утверждал, что красным. Но тут сапёры впереди завозились и встревожено закричали:
– Назад подавай! Назад!
И земля у них под ногами неожиданно поднялась. Слева грохнул крупным калибром откос, справа треснула мелко «зелёнка», и закипело.
Самсонов так развернул башню, что стволами едва не смахнул всех с брони. И колонна грянула из всего, что имела.
– Пускай дымы, Кузнецов!
– Ориентир скала-скала-между… Огонь!
– Голованов, слева присмотри! Ещё левей!
Так его раскрутить и не удалось. Бегали дотемна в «зелёнке», а ночью загремели всем взводом в охранение. А там какое письмо? Приказа о демобилизации не прочтёшь. Корнюхин попробовал было забить косяк, так его самого чуть было в этот косяк и не забили. Постреливали всю ночь одиночными, чтобы не светиться, и гадали, какой паразит так ловко стрижёт с горы и чем бы его прихлопнуть. Паразита прихлопнули на рассвете «вертушкой» и ушли без раскачки в «зелень», а уж там про Голованова и вовсе забыли.
Вытаскивали из ущелья завязшую разведроту, и поначалу всё шло хорошо. Успели даже набить виноградом цинки, но дальше уже пошли крепости, мощные, с амбразурами и зелёными тряпками на шестах. А может быть, и не крепости, а просто пять или шесть домов, слепившихся общей стеной, но стена эта была такая, что прошибать её приходилось по всем правилам, с разведкой, штурмом и прочей канителью. Комбат замучил заказами «вертушки» и то и дело просил через себя пушкарей. Пушкари отзывались, «вертушки» устраивали карусель, и крепость на несколько минут умолкала. Тогда её быстренько зачищали головной ротой и шли дальше. К полудню взяли таких четыре и привалились отдышаться у разбитой стены. Прикрывшись БМП, развели костерки. Грели на шомполах сухпай и мучительно хотели жареной картошки.
– Нельзя, нельзя нам тут заглубляться, – волновался рядом комбат. – Отрежут!..
И ротный что-то ему отвечал, но отвечал как-то кисло, и вообще, выглядел в последние дни неважно. Не клеилось у него что-то с продавщицей. Поговаривали даже, что видели её в Кабуле с другим. И после картошки все заговорили о женской верности.
Всем было ясно, что её нет, – проверено экспериментально. Поливанов на всякий случай переписывался с тремя, и ровно через полгода все трое, не сговариваясь, вышли замуж. Он, было, загрустил и даже собрался стреляться, но так и не решил из-за кого. Выставил на камне три фотографии и расстрелял, после чего ему значительно полегчало, потому что раньше из-за тройной переписки недосыпал. Не было женской верности, точно. И вдруг все вспомнили, – Голованов. И обернулись. Голованов сидел, привалившись спиной к тракам, и вопиющим несоответствием белел на его колене конверт. И он так бережно его расправлял, был так несокрушимо спокоен, что все заподозрили, – неточно. И бросились уточнять.
– У тебя с ней чего, всерьёз?
– Ты, главное, скажи, ждёт?
– Что у вас, эта, как её, любовь?..
– Ты скажи, будь человеком!
Но Голованов был не просто человеком, а счастливым, и разделить своего счастья никак не мог. Даже если бы захотел, не делилось. Курил, молчал и загадочно по своему обыкновению улыбался. И всем вдруг нестерпимо захотелось узнать, – чему? Захотелось почувствовать и хоть на миг ощутить. И завелись на него уже не на шутку.
– Колись, Голова, что пишут?
– Кто такая? Познакомились как? – приставали к нему и страстно упрашивали. – Ты хоть намекни, зараза, не будь козлом!
Но Голованов был твёрд, как скала. Смотрел с каким-то странным сочувствием и печально улыбался. Но народ от него не отступал. Приставали, спорили и донимали:
– Ну, погоди, отольётся тебе наша сгущёнка!
И решили действовать методически.
Брали его, как крепость, – обстоятельно, с прикрытием и на штурм. В перекурах просто доставали, а на привалах доставали не просто, а с изворотом. Самсонов заводил страшную историю о том, как одному дембелю писали-писали, а когда вернулся, то оказалось, что уже замужем и беременны. А Косаченко рассказывал про другого дембеля, который, узнав про такое, и вовсе не вернулся и остался в армии на сверхсрочной, что было ещё страшней. И Корнюхин лицемерно вздыхал:
– Да, вся жизнь бардак, все бабы дуры!..
И коварно заглядывал Голованову в глаза, ожидая, что тот возразит: «Не все!», и тогда его можно будет поймать. Но Голованов не возражал, и вообще, держался так, как будто всё это его совершенно не касается. И закрадывалось волнующее подозрение, а, может, правда? А, может, есть? И отчего-то очень хотелось, чтобы было. И весь взвод охватило романтическое помешательство.
«Молодые» выспрашивали у «дедов», правда ли? И те с изумлением припоминали: «Правда. С самого карантина и раз в неделю письмо».
Поливанов перестал рассказывать похабные анекдоты, а Корнюхин их слушать. Волновались, спорили и галдели. Виноград надавили в рассеянности в канистру с бензином, и Миносян залил её в бак. Про войну забыли настолько, что Шерстнёв застроил взвод и вывернул у всех карманы, заподозрив у Корнюхина косяк. Но косяка никакого не нашёл, а письмо, уважительно обнюхав, вернул, сообщив поразительное:
– «Клима»!..
Отчего любопытство стало уже и вовсе нестерпимым. И, наконец, уже вечером, на привале Корнюхин не выдержал и сказал:
– Всё. Ща я буду тебя убивать. Читай, гад, или здесь оставим! – и грохнул в сердцах прикладом оземь.
Голованов посмотрел на него сначала рассеянно, а потом с удивлением.
– Да вам-то зачем? Вам-то с этого что?
И все возмутились:
– А ты думал, всё тебе? А нам, значит, ничего?
И, почувствовав слабину, залебезили:
– Нам бы только проверить! Нам бы только хоть краешком… Нам узнать!..
И Голованов, улыбнувшись чему-то, вздохнул:
– Ладно, достали, сволочи… Только я сначала себе.
И, привалившись спиной к дувалу, осторожно распечатал конверт. Но ни себе, ни людям, прочитать не успел.
– Подъём, седьмая!
– Давай, давай, мужики!
И они дали в последний раз так, что «зелёнка» треснула и брызнула во все стороны клочьями рваных корней. По сигналу навстречу пошла в прорыв разведрота, и скоро, пристроив её в середину, колонна попятилась и, прикрывшись «вертушками», отошла.
Но выйти из ущелья оказалось непросто, всё произошло так, как говорил комбат. На выходе пришлось разжимать «клещи». И они ещё долго бегали по «зелёнке» и мучили заказами пушкарей, а в сумерках прорвались и притащили на себе Голованова. У него было два сквозных и слепое в шею.
– Всё, дембель! – объявил медик Пашка. – Сухожилие начисто и позвонок…
Снял с него бронежилет, распорол «хб» и, сорвав дрожащими пальцами колпачок, мгновенно всадил шприц-тюбик.
Вещи и всё, что было в карманах, чтобы не пропало в санбате, оставили. Потом выломали в развалинах дверь и, положив на неё Голованова, понесли к «вертушке». «Вертушка», присев на минуту, спешила до темноты, и ни проститься толком, ни уложить его как следует не успели. Вернулись молча и сели вокруг костра. Разбухший от крови конверт лежал на земле, и никто не знал, что с ним делать Обратный адрес уже расплылся, да и нельзя было ему такому обратно. И тогда Самсонов его взял и решительно протянул Кременцову:
– Читай… Он ведь и сам нам хотел.
Валерка его взял, развернул осторожно слипшийся листок и, поглядев на всех странно повлажневшим взглядом, прочёл:
– Серёженька, милый мой, желанный, дорогой, здравствуй!..
И всё вокруг возликовало:
– Бывает, мужики, бывает!
И возбуждённые, озарённые чужим счастьем лица потянулись к костру.
– Милый, желанный мой, жду тебя каждый день…
– Ждёт! – ликовали вокруг и пробовали губами, – Желанный!..
– Всё, – решительно объявил Валерка, – дальше не разобрать.
Но этого было достаточно. Всем было немыслимо спокойно и хорошо.
– Так-то вот! – удовлетворённо вздохнул Самсонов. – А вы – «не бывает, не бывает»!
И, заглянув Валерке через плечо, вздрогнул. На разбухшем и расползающемся от крови листе не сохранилось ни слова. Всё расплывалось бурой и маслянистой влагой.
– Что, правильно прочитал? – в упор посмотрел на него Валерка.
И Самсонов, не задумываясь, подтвердил:
– Правильно.
И, отобрав у него листок, бережно опустил в костёр. Листок от прикосновения огня съёжился, но потом кровь на нём высохла и, стремительно расправившись, он вспыхнул и, уже распадаясь серыми хлопьями, всё вокруг себя осветил.