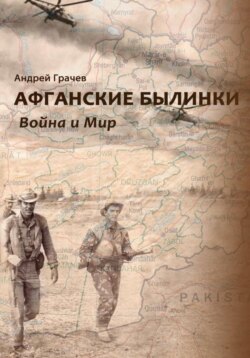Читать книгу Афганские былинки. Война и мир - - Страница 9
Часть I. Война
Варяг
ОглавлениеПеред выездом посадили медика-Пашку, ни за что посадили, прямо за ерунду. Подумаешь, взводного послал и подержал за воротник, так он всех посылал и каждого подержал: и замполита, и ротного, и старшину. А комбат уже не знал, куда его и послать.
И куда только не посылали Пашку: на Панджшер, под Файзабад, в Кандагар, пробовали даже перевоспитать в образцовой четвёртой роте, но Пашка отовсюду возвращался неперевоспитанным. С Панджшера вернулся он округлившимся и весёлым, из Файзабада не вернулся – привезли под конвоем, а четвёртая образцовая начинала образцово курить гашиш. И Пашку срочно переводили в седьмую, которую испортить было уже нельзя, а потому и не жалко. Замполит о нём прямо сообщал: «Мечин – единственный, на кого я похоронку напишу с удовольствием!». Но Пашка ему удовольствия не доставлял, и даже, когда его перевели в самую гиблую сапёрную роту, не загнулся, а с такой бесшабашностью глушил на Панджшере рыбу, что третий взвод едва не оглох. Но взвод за это на Пашку не обиделся – рыбы получилось навалом, – а в ушах позвенело чуть-чуть и прошло. И всё, совершенно всё у него проходило: кишмишовка, самоходы, бражка, бахшиш. Прошла однажды даже целая канистра вина, которую произвели самопально и хранили для безопасности под кроватью комбата. Канистра эта от жары взорвалась, до смерти перепугав командный состав, но кто её сунул, комбат так и не установил, и Пашку посадил только на всякий случай. И всё ему было, как с гуся вода. Один только раз зацепили его в Файзабаде, но из госпиталя скоро выгнали, – то ли сестричку с врачом не поделил, то ли наоборот, поделил. Сам он подробностями не делился, сказал только: «С свинцом в ноге и жаждой мести!..», и утолил жажду привезённым спиртом. А мстить никому не стал, потому что такой был человек – немстительный. И давно уже не был он никаким санинструктором, а кем только уже и не был, и бродил со своими сапёрами по всему Афгану, но так и оставался для всех Пашкой-медиком. Потому что так уж повелось – если плохо, иди к Медицине. К нему и приходили, и становилось неплохо, а некоторым даже и хорошо, Голованову, например, или Полоскову. И вот, посадили. Замполит посадил, – он-то был наоборот, очень мстительный. Сказал: «Пока человеком не станет, не выпущу». И всем стало нехорошо, потому что для него в батальоне существовал только один человек – воин с плаката «Ты защищаешь Родину».
И что только с этим воином не вытворяли: и усы ему рисовали, и украшали фингалом глаз, и пересобачивали первую «щ» на «ч», замполит всё равно плакат после скандала переклеивал и снова заводил про моральный облик. И вот, значит, решил сделать человека из Пашки: «С гауптвахты у меня только человеком выйдет!». Отсидит Пашка трое суток, появится.
– Ну что, Мечин, стал человеком?
Пашка ответит – и снова с треском на трое суток, потому что, как следует, отвечал, как положено, и так ровно месяц, подряд десять раз, штаны просидеть можно. Упёрлись оба – и ни в какую, на принцип пошли. Точнее, замполит на принцип, а Пашка на «губу». Губари, конечно, только обрадовались: Пашка для них и вовсе родной, а батальон загрустил: некому стало старшину послать или достать ротного, а надо бы, потому что они уже достали всех: подъём, зарядка, отбой. Раньше хоть Пашка заряжал, а теперь замполит:
– Дисциплина…Служение…Долг…
А чего дисциплина, и задолжали кому? И так жизни нет, одна служба. Ротный во всю наслаждался строевой, непрерывными тренажами мордовал старшина; только в караулах и отдыхали и с нетерпением ожидали Пашку.
– Ладно, ладно, будет вам дисциплина!..
– Пашка вернётся – наладит!
Ему, конечно, помогали: приносили кое-что и как могли, навещали. Полосков нарочно «присел» на сутки, чтобы его навестить. Вернувшись с губы, сообщил:
– Лепит из клейстера замполитов бюст. Похоже – страсть!
А позже удалось доставить и бюст. Вонючий, загустевший от жары замполит был и вправду удивительно похож, и все наслаждались им, пока стало невозможно нюхать, но позже разнеслось – перевели в одиночку. И тут уже загрустили даже губари. В общей камере воцарилась тоска, а в батальонных палатках старшина. На кроватях стали отбивать табуретками уголки и выравнивать ниткой полоски на одеялах. Оказывается, так полагалось делать в нормальной армии, а до этого армия была ненормальной. Начальство безнаказанно наводило порядок, и порядок установился такой, что третий взвод захотел на «губу», для чего завалился на кровати в чём был и в полном составе. Но на губу его не пустили: прогнали марш-броском и пропесочили на разводе. Седьмая рота становилась похожей на четвёртую, а точнее, не похожей на себя, и встречала Пашку только по утрам, когда губарей выводили на работу.
– Пашка! Привет!
– Держись, Медицина!
И Пашка держался, ковылял бодро на хромой ноге и приветственно помахивал киркой.
– Врагу не сдаётся!.. Пощады никто!..
И губари, по его указанию, делали героические лица и, чеканя строевым, запевали «Варяга». Пели они вдохновенно, с поразительной слаженностью, а чеканили так, что старшина только головой качал:
– Вот сволочи, а! Ведь могут же, могут, когда захотят!.. – И не понимал, отчего не хотят, если в принципе могут.
А мог Пашка ещё и не такое. Все помнили, как он брал караван под Файзабадом и какого матёрого душару приволок на Панджшере. Замполит устал наградные заворачивать:
– Пока человеком не станет, не получит!
Но Пашка не становился. Получал следующие трое суток и горланил:
– Я сижу на берегу, не могу поднять ногУ!
И могучий губариный хор запевал:
– Не ногУ, а нО-гу!
– Всё равно не мОгу!
И действительно, не мог, приволакивал ногу Пашенька. Хромал с каждым днём всё больше. Четвёртую неделю сидел, осунулся, почернел, на лице оставались только нос и глаза. Но нос он по-прежнему держал кверху, а в глазах плясали прежние черти. Прихрамывал, распевал «Варяга» и держался. И так прошёл месяц, потянулся второй, и все вдруг почувствовали, что держится на нём что-то совсем другое, то, чего даже табуретами не отбить, и по нитке не выровнять. Даже старшина почувствовал, даже ротный, и, самое странное, отбивать этого не хотелось. А хотелось, как прежде, обругать, застроить и от души разнести. И отчего-то было на этой душе неспокойно. И надо бы застроить, и обругать стоило, но ведь это же Пашка, особый случай. А если его заравнять, зашнуровать, – что останется? – ничего особенного.
– Петрович, брось, – уговаривали замполита. – Чего взъелся? Нормально наказал!
– Ну, Александр Петрович, ну в караул же некому заступать! – приставал взводный. И даже комбат, который Пашку иначе как «раздолбаем» не называл, неожиданно вспомнил:
– А этот, как его, Мечин… Что за эксперимент? – и поморщился, но отменять ничего не стал, не стал отменять авторитета своего заместителя, – это было всё равно, что армию отменить или алфавит. А сам он, даже если бы захотел, отменить уже ничего не мог.
Весь личный состав наблюдал за ним, весь батальон. Немыслимо было отступление на глазах у всех, и замполит неотступно преследовал свою цель:
– Ну, что, Мечин, стал человеком?
Но и Пашка на попятную не собирался:
– Только после вас, – вежливо отвечал он и получал следующий «трояк».
Пашка дерзил и ещё громче горланил «Варяга» и создавал полное впечатление, что «губа» – санаторий, и, подхваченный этим впечатлением, начинал дерзить батальон. Какая-то бесшабашность появлялась в нём и необузданная, задиристая лихость. Батальон переставал бояться «губы» и вообще, бояться. Полоски на одеялах стали называть «извилиной старшины», поэтому табуретами их отбивали с удовольствием. Воинственный плакат мастерски поправляли одним штрихом так, что утром все с изумлением узнавали фамилию замполита: «Воин, ты защищаешь Родина». А воин, украшенный таинственно проросшими за ночь усами, становился подозрительно похож на комбата. Дело принимало серьёзный оборот. Что-то раскалённое повисло в палатках, неопределённо гнетущее, и уже не об отдельном Пашке шла речь, а о самой возможности быть Пашкой и им оставаться. Батальон напряжённо следил за событиями, и каждые трое суток облегчённо вздыхал: остался.
– Послал! – ликовали в палатках. – Снова врезали три по сто!
И оказывалось, возможно, получалось, что может быть. И всё в этот день получалось и удавалось так, что было жалко спать. А отосланный Пашкой замполит торопливо строчил сопроводительную записку, в которой «считал невозможным» и полагал, что «не может быть». А Пашка всё равно был и на записки глубоко плевал, шёл ко дну несокрушимым «Варягом», и всем было ясно – не сдастся, потому что такой он, Пашка, и всё ему как с гуся вода. Но «губа» вовсе не была санаторием, а воду «губарям» приносили раз в сутки.
Начальство затеяло зимний клуб и назначило новую работу – ломать камень. Губари возвращались с неё запылёнными, серыми от усталости, а во дворе гауптвахты их встречал замполит. Прежде он начкаром почти не заступал – некому было проводить политзанятия, а теперь зачастил.
– Ну, что, походим вместо Мечина? Он ведь у нас ходить не любит, – объяснял он и начинал гонять строевым.
Три дня объяснял по три часа, и Пашка сломался. Выводной приник жадным ухом к двери и не поверил.
– Ну, что, Мечин, стал человеком?
– Так точно.
– А будешь нарушать устав?
– Никак нет.
И Пашку отпустили. Почерневшего, худого, вернули его в палатку, но было такое ощущение – не вернули. Он стал молчаливым, сосредоточенным и серьёзным, на все вопросы отвечал «так точно» и «никак нет» или не отвечал совсем. Никуда не рвался, ничего не хотел, и целыми часами смотрел в одну точку, а в точке этой ничего не было – пустота. Это был совсем другой Пашка, а прежнего, заводного, оставили на «губе», на «губе» осталась бесшабашная, непотопляемая его лихость.
Ему, конечно, сочувствовали, и всё понимали, но и сочувствовали другому, прежнему Пашке, а этого понять не могли. Молчит, сидит и думает, – непонятно. И батальон заскучал, некому стало заряжать и горланить «Варяга». Единственным, кто выглядел довольным, был замполит:
– Вот видите, даже Мечин справляется, а вы?.. – подгонял он на марш-броске.
И Пашка действительно справлялся, не смотря на хромоту, справлялся, не смотря ни на что. Ни единого замечания не нашлось для него у старшины, ни малейших нареканий не высказал ротный. Поэтому, когда стали думать, оставить его с караулом или зачислить на выход в рейд, замполит возражать не стал. Наоборот, поддержал:
– А что? Солдат как солдат…Я думаю, не подведёт.
К новому, притихшему Пашке он относился почти с симпатией, выделял его как хорошую работу. Но сам Пашка себя не выделял. Молча собрался, тихонько влез на броню и стал совершенно незаметным, – солдат как солдат. Но едва батальон углубился в «зелёнку», едва поднялся с первого привала, замполит вдруг заметил взгляд – тяжёлый, пристальный, исподлобья. Рядовой Мечин смотрел ему в спину – рука на спуске, предохранитель вниз – вот-вот и шарахнет. «Вот паразит! О чём только думает! – поёжился замполит и похолодел. – Об этом и думает, и всё время думал! Сволочь какая, скотина, гад!». И, главное, ничего не скажешь: у всех на спуске, и предохранитель у всех.
– Чего уставился?
– Никак нет, – ухмыльнулся Пашка.
– Давно не видел?
– Так точно, – обрадовался он и загорланил «Варяга».
И в тот же день рванул в одиночку ДШК, набил морду танкисту и приволок откуда-то барана, да такого огромного, что даже взводный не выдержал:
– Ну, чёрт медицинский! – восхитился он. – Медицина хренова!
И все вдруг узнали – Пашка, бесшабашный, весёлый, свой, а замполита наоборот, не узнали. Каким-то дёрганым стал замполит, нервным, от малейшего звука вздрагивал, от каждой чепухи психовал, и всё время оглядывался, всё время чего-то ждал. А дальше – больше.
Чем глубже батальон уходил в «зелёнку», тем веселей и развязнее становился Пашка, и, наоборот, угрюмее и задумчивее был замполит. Он злился, срывался на пустяках, но поделать ничего не мог. Необъяснимый и подлый страх охватывал его, унизительный, навязчивый, липкий. «Этот может, – объяснял он себе. – Этот всё может», но другим объяснить не мог. Не мог же он сказать, что Мечин смотрит, а Пашка смотрел, и всегда ненароком, всегда как бы вскользь. Он дышал в затылок, висел над душой, и только капитан знал, что не смотрит он, а присматривается, выжидает момент и подходящий случай. А случай подходил – начинались штурмовки, прочёски и неразбериха, в которой случиться могло всё, и, чтобы не случилось, капитан перестал спать. Перестал проверять посты и садиться на головную броню. Издёрганный, взвинченный замполит перестал быть собой. Ожидание становилось кошмаром, а кошмар – обрывистым сном. Пашка уже начинал сниться, и каждый раз снилось, что он производит случайный в спину, и никто уже не может доказать, что не случайный. «А может, самому? – закипал замполит. – Чего ждать?». Но и самому было нельзя, – Пашка ведь только смотрел, а в остальном – «так точно» и «никак нет». Оставалось только унизительное, мерзкое ожидание, и он ждал, ждал, ждал. И после штурмовки в развалинах дождался: двинулся в одиночку к седьмой и нарвался. Пашка сидел на мине и играл гранатой. Мину он снял с дороги, а граната в ладони была без чеки. Ободранный, почерневший Пашка смотрел в глаза и белозубо скалился.
– Ну, что, замполит, стал человеком?
И замполит понял. Была «зелёнка», чёрными дымами догорали БМП, потрескивало очередями с постов и здесь никого не волновали полоски на одеялах, не волновали гауптвахта и строевой шаг. Даже его, замполита, не волновали, а волновало, что в седьмой остался последний сапёр – Пашка, а Пашку даже и это не волновало. И замполит сломался:
– Так точно.
– А будешь ещё людей мордовать?
– Никак нет.
– Эх, ты, – укорил Пашка и неожиданно, по-стариковски вздохнул. – Грохнуть бы тебя, полудурка!..
Но убивать никого не стал, а сунул чеку в гранату, мину подмышку и заковылял, не оборачиваясь, к постам, безмятежно и во всё горло распевая «Варяга», потому что такой он был человек – немстительный.