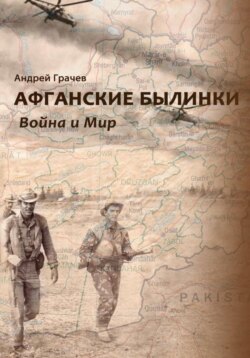Читать книгу Афганские былинки. Война и мир - - Страница 13
Часть I. Война
Счастье
ОглавлениеПервухин решил застрелиться: головой – на ствол, пальцем – в спуск. Лежал среди камней, ворочался, – так и решил. А чего? Всё равно жизнь не задалась. На разводе комбат «раздолбаем» назвал, Косаченко наехал, да ещё от Люськи письмо: «прости, не грусти, так вышло…» И как это у них так выходит: сначала «не грусти», потом «прости». Но Люська что? Если честно, до лампочки. Он и целовался-то с ней всего два раза, и то милиционер спугнул. День любил, на второй забыл, а вот с Косаченко обидно.
Он ведь с ним на Панджшер ходил, бахшиш ему на дембель подарил – цепочку, и всегда за него вписывался. А тут котелки заставил мыть, как молодого, при всех. И комбат тоже: «Ты у меня зимой на дембель пойдёшь командой сто!» А за что? За сон на посту. В боевом охранении заснул, а где же ещё и спать, как не там? Время есть, духов нет, – там все спят, и Косаченко тоже. А ему сразу – котелки. Душа горела, горело подбитое сержантом ухо, и вообще, накипело всё: «красная рыба», пыль и свирепый комбат. И Первухин решил застрелиться немедленно и всерьёз. Нужно было только найти автомат, потому что своего у него не было. По штату Генка числился пулемётчиком, и всюду таскал с собой здоровенный ПК. Его он и потащил.
Отошёл за бугорок, примерился. И боком к нему пристраивался, и животом, но до спуска так и не дотянулся – ростом не вышел. «Ногой! – сообразил он. – Разуться – и большим пальцем!» И уже потянул себя за шнурок, но тут с гор рванул такой ветер и такой прошёл по всему телу озноб, что разуваться сразу расхотелось. Стреляться захотелось ещё больше, а разуваться нет. Босым, на ледяных камнях, – бр-р! И Генка пошёл к Самсонову, – всегда у него одалживался, когда в караул.
Тот сидел на камне в одних трусах и штопал, натянув на каску, штаны.
– Жорик, дай автомат!
Но Самсонов как раз в это время вогнал в палец иглу, расстроился и не дал:
– В прошлый раз давал – ты его чистил?
И зажал. А ещё друг, на губе вместе сидели, Люськины письма ему читал. И пришлось спать не застрелившись.
Батальон был на выходе. Отбой застал его на горе, и каждый завалился, где смог: в бушлатах, спальниках и просто так. Укладываясь, для тепла ложились в притирку и подло оставили Генку с краю. Сапёры обтягивались «сигналками», и, забивая колышки, не давали уснуть. Бесчувственно храпел в больное ухо Поливанов, и долго бубнил с сапёрным зёмой Старков. Автоматы все старательно прятали под собой. Сопели, укладывались, смеялись, и никому никакого дела не было до Генки. Никому не приходило в голову, что вот эта ночь, может быть, для человека последняя. И Генка тосковал. «Ну, погодите, – страдал он. – Спохватитесь завтра, увидите!..» И страстно завидовал взводному. У взводного был не только автомат, но и пистолет, который по идее и ему бы не помешал. Но ведь нет правды на земле, и лежит его пистолет где-то на складе. А он здесь на камнях и с тяжеленным ПК. И никто, небось, не помнит, что ему не только пистолет, но и второй номер полагается. А он третий день таскается один и с пулемётом. И с коробками, и с запасным стволом. «Стволом! – озарило вдруг Генку. – Вместо палки, и нажать на спуск! Застрелиться хватит»! Можно было, конечно, и гранатой, но это ещё хуже, чем разуваться. Не хотелось совсем гранатой, как-то не то. И оттого, что завтра стреляться, Генке неожиданно полегчало. И сапёры перестали стучать, и в душевный свист перешёл Поливанов. Одним словом, до утра ещё можно было как-то прожить, а утром – всё. И пусть все подавятся своими автоматами! И Генка стремительно, как в пропасть, свалился в сон. Знакомая дорога снилась ему, просёлок и запах бензина.
Проснулся он тоже легко, поднялся бодро, но застрелиться утром ему не удалось. Обидно было, что пропадает пайка – пришлось позавтракать. А потом выяснилось, что будет «вертушка», и, возможно, письма. И не то чтобы он их от кого-то ждал, – в прошлый раз получил и целую пачку, но мало ли? Может, вспомнил кто, может, чего написал? Просто невозможно было застрелиться и не узнать. Пришлось для очистки совести ждать. И дождался.
Через час подлетела и зависла в облаке пыли «вертушка». Приняла раненых, оставила груз, и скоро вдогонку головной роте понеслось:
– Первухину!..
– Третий взвод, Первухину!
И хорошо ещё, что не заставили плясать – как раз в это время проходили минное поле. Надрали только уши, отчего снова запылало больное. Письмо вручили захватанным и от множества рук лохматым. Генка на ходу его прочитал и стало ясно: всё, окончательно и бесповоротно. Лучше бы он застрелился вчера. Мать писала, что продала мотоцикл, новенький его и необкатанный ещё «Минск». Перед самой армией купил, всё лето работал, а она продала. И зачем? Чтобы костюм какой-то купить, какие-то туфли. «А то ты придёшь и будешь совсем раздетый!». А он ведь его под кроссовый переделал, глушитель переставил и вилку. И ведь просил же, просил! «Костюм! – упивался горечью Генка. – Вместо глушака – туфли!» И даже обиды теперь не чувствовал – только горе.
До этого он о матери старался как-то не думать, – неприятней было, чем разуваться на камнях. А теперь подумал и решил: нет в жизни смысла, ни грамма! И соглашался уже и на гранату, и босиком. Но гранаты он, как назло, вчера раскидал: то ли баран ночью прошёл, то ли что. Новых набрать из цинка поленился, а стреляться на ходу не хотел. Да и стыдно как-то на глазах у всех, всё равно, что на глазах у всех целоваться. И вдруг, вспомнив, как он тогда, у военкомата, на глазах у всех целовался, Генка пронзительно и с неожиданной ясностью понял, – Люська! Чепуха всё: и комбат, и Косаченко, и даже мотоцикл, потому что всё-таки не до лампочки она ему, эта Люська. Запах её духов вспомнился ему, и удивительное, трепетное дыхание. И такой это был запах, такое дыхание, что щемящей, невыносимой болью сдавило сердце, и Генка, застонав, повалился набок. Потом, поднявшись, рванул из чехла запасной ствол, и тут же услышал:
– Поливанов, гад, возьми у Первухина ствол и коробку! Пойдёшь за второго!..
Косаченко наводил порядок. И Поливанов заныл, что и без того под завязку, что хотя бы ствол, а коробку другим. Только потом пахло вокруг и хриплым чужим дыханием, и ни секунды не было, ни мгновения, чтобы остаться одному, и хотя бы это мгновение – побыть. Сипел простуженным горлом Поливанов, бесконечными командами подгонял комбат, и одна только радость оставалась на тропе – мины, когда можно было привалиться и перевести дух.
Батальон бесконечной цепочкой шёл на подъём, и вместе с ним поднималась и нескончаемой, сухой горечью разливалась тоска. И никакой возможности не было остановиться, чтобы её прекратить. Комбат гнал так, что пар валил от взмокших спин, и Генка не понимал уже, куда идёт и зачем, и не радовался, когда сапёр останавливал колонну. А рядом волновался и безостановочно суетился взводный. Отслеживая колонну, он то отставал, то снова забегал вперёд, без нужды снимая с предохранителя автомат. Автомат у него был новенький, необтёртый, и сам взводный тоже был новеньким и необтёртым. Поэтому, когда по камням защёлкало, и взвизгнул над головами первый рикошет, никто от него команды ждать не стал. Быстренько разобрались, и, как положено, залегли. Потом куда-то стреляли, потом снова куда-то шли, и снова переползали, стреляли, шли – и так целый день. Бесконечными парами заходили и фыркали ракетными залпами «вертушки». Проседая целыми пластами, сползал горный склон, и батальон тут же поднимался и по оползню шёл наверх. Несколько раз лопались под ногами у кого-то мины, и взрывной волной накрывало так, что больно становилось дышать. Но Генка уже ни боли, ни усталости не чувствовал. Привычно ложился, равнодушно вставал, и только вечером понял – один.
Поливанов пошёл искать коробку, которую понёс за него кто-то другой, и не мог найти. Зачехлённый ствол остался на земле, и Генка с наслаждением его расстегнул. Удивительное, странное спокойствие охватило его, и необыкновенная тишина. Это было похоже на счастье: не волноваться, не чувствовать, никуда не спешить. Немножко жалко было своих: как они его понесут? Но нести было недалеко: за горкой сапёры расчистили пятачок, и туда время от времени подлетали вертушки. Генка глубоко, как свободный человек, вздохнул, подтянул к себе пулемёт, и тут же снизу донеслось:
– Генка! Справа работай, справа!
И он заработал. Прострелял правый склон, завал и притих, сосредотачиваясь на своём, но на своём ему не пришлось. Пришлось снова гасить завал. А сверху, снизу уже неслось:
– Шугни слева!
– Сапёра прикрой!
– Геноссе, сволочь, прикрой!
И Генку уже по-настоящему разобрало: «Вот гады, а, – возмутился он. – Застрелиться по-человечески не дадут! Ну, ничего без меня не могут!» И вдруг заволновался, – не могут. Весь его взвод был плотно прижат к земле и жил на длину пулемётной ленты, потому что ни отойти, ни остаться никакой возможности не было. Неприятные серые горошины набегали со всех сторон, и до того они были неприятные, что Генку прошиб озноб. «А я ведь ещё на письма не ответил, – вспомнил он. – И от матери не дочитал. И вообще, чего, собственно, взъелся? Ну, разлюбила, ну, замуж пошла, и дай Бог! А мне бы, Господи, до камушка добежать! И патрончиков бы… И ещё вон до того», – просился он. Добегал, отстреливался и перекатывался к следующему. А навал продолжался. Невыносимо близко щёлкало по камням и брызгало в лицо каменной крошкой. Сначала он работал на триста, потом – на двести пятьдесят, и чем короче становилась дистанция, тем яснее и определённее складывались мысли: «Сволочь ты, раздолбай! – мучился Генка. – На посту спал. Да за такое не бить, а убивать нужно! И с мамой… Она, может, без копейки сидит, а ему мотоцикл»! Вот только с Люськой до конца не складывалось, всё равно оставалось где-то и где-то болело. Генка резал короткими, считал с ужасом, сколько ещё осталось, и жалко было себя до слёз.
Когда Поливанов притащил коробку, в ленте оставалось всего три патрона. Поливанов увидел и виновато засопел.
– Тебя, Поливан, за смертью хорошо посылать, – простил его Генка.
Вставил ленту, загнал патрон и с наслаждением перевёл на сто. «Хорошо-то как! – думал он. – Часики! Швейцария! Ураган»! Потом, когда подлетели и в очередной раз устаканили всё вертушки, взвалил на плечо пулемёт и пошёл к своим.
– Ну, – предстал он, – заценили механизм? – И горделиво качнул стволом.
И все с чувством подтвердили:
– Отпад, Геныч!
– Убой!
– Застрелиться и не жить!
– То-то! – успокоился Генка.
Выбрал камень поудобнее, повалился и молниеносно заснул, крепко обняв своё единственное и личное счастье – пулемёт.