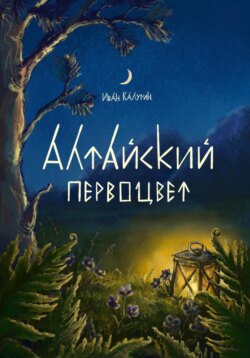Читать книгу Алтайский первоцвет - - Страница 13
Часть 1
11
ОглавлениеЛюбой, кто мало-мальски знал Виктора Павлова, называл его баловнем судьбы. Кто-то сдержанно радовался его достижениям; кто-то обращался к нему за помощью – в надежде выяснить секреты мозолистого успеха; ну а некоторые, молча или вполголоса, терзались от лютой зависти к Витькиным победам.
И, действительно, ведь было чему завидовать.
Виктор успешно совмещал работу корреспондента на два самых читаемых печатных издания Советского Союза. Работа часто бросала его в самые разные географические точки страны. Как говорил он сам, Господь сподобил его побывать в местах, где на самом деле не ступала нога человека. Блуждал зимней ночью по тундре на оленьей упряжке, снимал с вертолета горные перевалы, карабкался по отвалам рудника «Бутугычаг», из которого добывали уран для первой советской атомной бомбы.
Личная жизнь тем временем поспевала за успехами на рабочем фронте.
В пятницу, сразу после планерки в редколлегии, один штатный сотрудник рассказал о готовящемся квартирнике с участием журналистов, фотографов и музыкантов.
На вечернем балагане Витя практически никого не знал. Но он активно заводил новые знакомства и раздавал свой номер телефона на случай халтуры. Читались стихи, кто-то достал несколько гитар; галдеж в прокуренной кухоньке и серенады на балконе – уровень шума шел по нарастающей.
Самая главная беда во времена квартирников – соседи. Зачастую их негодованием финишировали любые домашние капустники. Скрюченными от злости пальцами они вызывали наряд милиции или строчили доносы по месту работы дебоширов.
В тот вечер семейство Таирян, проживавшее через стенку от квартиры Мельниковых, где Павлов завывал под «Не для меня», наслаждалось птичьей трелью и поедало карси хоровац – еще днем они уехали на дачу аж до самого воскресенья. Их дочь Гаяне захворала и отказалась разделить с родителями армянскую кухню на дачной веранде. Поэтому, в аккурат на втором куплете «Не для меня», она сбила ноты поющим соседям-дебоширам настойчивым и глухим стуком в дверь. Через два часа, исцеленная медовухой и с румяными от танцев щеками, Гаяне знакомилась с будущим мужем.
– Ты, наверное, фотограф?
– На мне видно фотоаппарат?
– Получается, что я должна ходить со сче́тами на шее? Иначе я – не бухгалтер? – Гаяне разразилась звонким смехом.
– Я журналист. Пишу для газет, – ответил Виктор.
– А был бы фотографом, я бы позировала для тебя.
Через день Виктор купил свой первый фотоаппарат. Спустя пять месяцев в Кутузовском дворце бракосочетания зарегистрировали брак Виктора и Гаяне Павловых. А через год вышло издание первого альбома «Московское метро», за которым последовали многочисленные публикации в западной прессе, персональные выставки в Европе и баснословные гонорары.
По тем временам удача, свалившаяся на Павлова, была невероятной.
– Это то же самое, что выиграть в лотерею по трамвайному билету, – отшучивался он в своих интервью.
Гаяне стала той самой линией судьбы, что так крадучись и скрытно правит жизнь человека, неукоснительно следуя Божьему замыслу. Даже если порой нам кажется, что этот самый замысел не имеет юридической силы и составлен дилетантом.
В конце восьмидесятых в жизненном плане Виктора была обнаружена ошибка: злокачественная и третьей стадии.
– Никто не идеален, – говорил он. – А уж нас у Него вон сколько – поди за каждым уследи.
Павлов старался не обращать внимания на возникшую оказию со здоровьем и относился к этому жизненному кризису, как к любому другому в его биографии:
– Из любой ситуации есть выход – нужно только постараться его найти.
В его случае выходов было аж целая пара: жить дальше или надеть деревянный макинтош. Решив, что составлять собственную эпитафию еще не время, Виктор выбрал долгий, трудный, но от того не менее интересный путь.
Занимаясь лечением (насколько это лечение вообще было возможно в стране того времени) и получая передачи с заморскими пилюлями от друзей заграничных, Павлов начал готовиться к очередной выставке и выпуску книги на одноименную тему «Православие Сибири и Дальнего Востока». Идея сводилась к запечатлению истории храмов и церквей – сохранившихся с дореволюционных времен или тех, что были значимы для народа, но не пережили становление советской власти.
Одним из первых на просьбу «о любой информации для выставки и книги» откликнулся его студенческий приятель Аржан Амыров. Вместе с Виктором они окончили журфак МГУ. После учебы Аржан подался зову Алтая и вернулся к себе на родную землю. Будучи краеведом сельского музея, он имел доступ к папкам разного содержания. Одну из них Аржан отправил своему товарищу в Москву.
К тому времени Виктора одолевали боли, он практически перестал спать и ночи проводил на грани с реальностью. Однажды в подобном мороке он услышал глас:
– …и Я также говорю тебе, и на сем камне Я построю церковь Мою, и врата ада не одолеют ее…[17]
«Это я сказал или кто-то, – он пытался совладать с разумом, – мне это приснилось или я в самом деле это слышал?»
Не обращая внимания на гул в голове, который нарастал от боли, Виктор ухватился за ясное предчувствие. Предчувствие цели и дальней дороги.
Гаяне стояла на кухне – в руках конверт.
– Сегодня утром принесли. – Супруга готовила обед, лук щипал ей глаза. – От Аржана, с Чемала.
Виктор вскрыл конверт, бегло прочитал несколько исписанных листов. В руках он держал последний вкладыш. Это был черно-белый снимок: горная долина, разделенная рекой; на широком разливе русла топорщится остров, а между его скал был зажат небольшой храм. Виктор перевернул снимок: «Храм Иоанна Богослова. Горный Алтай, с. Чемал. 1917 г.».
– …и на сем камне Я построю церковь Мою, и врата ада не одолеют ее, – с хрипотцой вспомнился завет из сна.
Он обратно убрал в конверт все бумаги. Взглянул на жену, хлюпавшую от «злого» лука, поправил очки и перевел взгляд в сторону окна. Ночное послание обрело смысл.
17
Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18.