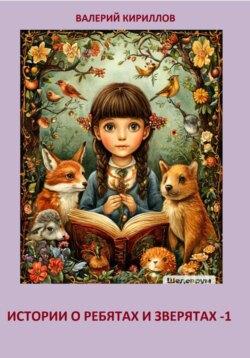Читать книгу Истории о ребятах и зверятах-1 - - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 8 Мамино детство. Походы в Спицыно
ОглавлениеОтец маленькой Зины – Степан Константинов – обычно держал 20–30 овец разных пород. Это позволяло и мясо заготовить на зиму, и шерсть для изготовления тёплой одежды получить. Зимой, да и летними свободными вечерами мама Зины – Наталья Леонтьевна делала на прялке нитки из льна и шерсти. Вернее, нити она пряла, а не делала. Видел я в 50-е годы, как она (уже моя бабушка)проворно скручивала шерсть в нити из кудели шерсти. Кудель – это облачко тщательно расчесанной шерсти. Прялка была произведением искусства – резная, покрытая лаком «под красное дерево». Была эта прялочка такая гладкая, что хотелось её погладить, как любимую кошку.
Часто женщины-подружки собирались у кого-нибудь вместе со своими прялками вокруг керосиновой лампы и рассказывали новости или пели красивые, душевные песни, пока нога нажимала на педаль-тополку и крутила колесо и рогульку с веретеном, а пальцы скручивали нитки из шерстяной кудели.
Однажды и я наблюдал с тёплой печи вечером, как мама сидела с подружками, ловко работала на прялке и рассказывала про жизнь в Ленинграде, а потом в Германии. Мы тогда жили в Германии под Берлином, где служил папа. На лето мама привезла меня в деревню к своим маме с папой. Очень мне нравились песни, а особенно запомнилось, как пела мамина двоюродная сестра Ольга. Голос у неё был сильный, красивый. Она после войны хотела поступить учиться вокалу в Ленинграде. Но ей тогда отказали из-за возраста – будто бы ей уже поздно учиться. Война! Пришлось Ольге устроиться на канатную фабрику в Ленинграде. Ну а своими песнями она радовала всех своих родных и друзей. Голос у неё был похож на голос знаменитой тогда певицы Руслановой, но тембр был необычно мягкий, бархатистый. Особенно мне, пятилетнему мальчишке, запомнилась в её исполнении песня "Голубка моя"…
Нитки, которые пряли женщины, были нужны для изготовления тканей. В нашем, вернее в бабушкином доме был свой ткацкий станок из светлого дерева со шлифованными деталями.
На ткацком станке ткали холсты из льна для красивой женской одежды, постельного белья, нижнего белья, портянок мужчинам в сапоги. Для зимней одежды нитки делали из шерсти овец, а, если надо, то к шерсти добавляли лён. А ещё ткали с узорами скатерти, шторы на окна, полотенца. Бабушка Наташа умела ткать узоры многоцветные – до восьми цветов. Это искусство считалось мастерским.
Зина, когда ей исполнилось года четыре, стала учиться ткацкому искусству. Станок казался волшебной машиной. Девочкапомогала маме подавать нити и запоминала, как делать ткани и узоры на них. Когда ей исполнилось лет 10, она уже сама могла ткать холсты для простыней. Эти ткани использовались женщинам на платья и юбки. Нитки красили сами натуральными красителями из разных растений.
Зину её мама стала учить стирать, когда той было годика три. Зине ставили рядом с деревянной лоханью табурет. Это такой большой деревянный таз на высоких ножках. Наталья стирала на стиральной доске, а дочка рядышком училась в водичке стирать свои маленькие тряпочки – платочки, рубашечку, трусики.
Но откуда же бралось столько шерсти для ниток?
Теперь люди даже и не догадываются, сколько много надо ниток, чтобы из них сделать одну простыню, или платье. Это незнание похоже на моё детское. Как-то я утром проснулся и вспомнил свой сон. Я стоял у огромного дерева-великана, на ветках которого росли буханки чёрного ржаного хлеба и батоны белого пшеничного. А кое-где, как на елке шишки, росли красивые крендельки, баранки. Я тогда ещё думал, что хлеб растёт на деревьях, как яблоки у дедушки в саду.
Шерсть веками нам дарили овцы. Для этого стригли овечек. Правда, нитки делали не только из шерсти, но также из льна, которого в этих краях выращивали веками много. Во времена Гражданской войны эти земли пытались захватить немцы именно потому, что здесь растили лён высокого качества.
Расскажу, как же получали шерсть в те не очень далёкие времена. Я в детстве это видел своими детскими любопытными глазками.
Сначала овец стригли. Это делали тёплым, солнечным летним днём. Перед стрижкой овец мыли в речке, давали просохнуть в течение суток или дня. Обычно овец стригли женщины или отец Зины. Кто-то из сыновей или помощников-мужчин отлавливал овцу, укладывал на брезентовую чистую подстилку, связывал ноги овце и держали её, пока стригли большими ножницами. Овцы обычно спокойно переносили процесс стрижки. Постепенно овцы становились розовато белыми, лишившись своей шерстяной шубки.
После стрижки овец шерсть надо было обработать. Для этого Зину, начиная с восьми лет, отправляли с овечьей шерстью за спиной в село Спицыно, где была специальная мастерская с чесальными станками.
Чтобы девочку освободили от посещения школы, родители писали записку учительнице. Зиночку отпускали всегда, так как она хорошо училась.
Село Спицыно находилось на берегу знаменитого Чудского озера почти в 25 километрах, от хутора Белый, где родилась и жила девочка. Но 25 километров – это по прямой. Однако прямой дороги туда не было.
Сначала надо было идти по мощённому булыжником большаку до села Чернёво – это 12 км по дороге среди могучих лесных елей. В Чернёво до 1917 года была усадьба князей Салтыковых. А потом по проселкам и лесным тропам девочка шла в сторону Чудского озера. Здесь уже не было дороги, покрытой камнями, как из Гдова в Чернёво. Здесь редко по лесным дорогам летом ездили на телегах, а зимой на санях, но чаще здесь ходили пешком.
Весь этот путь Зины лежал в обход непроходимых Катранских болот (так их называли местные жители), почти примыкавших к восточному берегу Чудского озера. Вероятно, когда-то в озере было больше воды и оно покрывало и территорию этих болот. А потом озеро отступило, а низменные места остались под водой. За долгие годы эти остатки озера заросли травой, мхом, кустами. Так и образовались болота.
По современным картам Гугл этот путь составлял около 45–50 км в одну сторону. Ходила Зина в поход в Спицыно с 8 до 11 лет. Потом началась война и всё изменилось.
Выходить приходилось до рассвета, чтобы успеть дойти до Спицыно к вечеру. Обычно девочка из дома уходила на неделю, так как в Спицыно приходилось ждать своей очереди на обработку шерсти. Желающих воспользоваться услугами мастерской было много.
Рано утром, на утренней зорьке, на спину Зиночке вешали прямоугольную корзину, как рюкзак. Только лямки такого рюкзака были из верёвок. Корзина была высокая – стенки высотой в 50–60 сантиметров. Взрослые с такими большими корзинами ходили в лес за грибами или за большим урожаем лесных ягод – черники, морошки, голубики, малины, клюквы. В этих местах тогда лес хорошо кормил людей. Только не ленись.
Девочка была маленького роста и эту корзину старались подвесить на её худенькие плечи так, чтобы она не била по ногам при ходьбе. Однако при ходьбе корзина постепенно опускалась всё ниже и била девочку по ножкам под коленями своим дном. В корзину укладывали слоями шерсть, соблюдая цвет шерсти – на дно корзины – чёрную, затем – шерсть с желтоватым оттенком, сверху – белую.
С собой в дорогу Зине её мама давала кусок хлеба и бутылку молока. По дороге разрешалось съесть половину припасов. Однако, уже по дороге до Чернёво молоко и хлеб почему-то кончались. Иногда девочка голосовала (поднимала руку перед собой, как бы загораживая дорогу) перед машиной или повозкой, идущей в Чернёво. Там был молокозавод, кондитерская фабрика, где делали карамель, варили повидло. А ещё там была спичечная фабрика, которую построил в России одним из первых князь Николай Салтыков. До того, крестьяне для разведения огня в печи хранили тлеющие угольки. Поэтому машины по дороге ездили, хоть и не часто.
Водители жалели малышку с большой корзиной на спине, останавливались. Спрашивали, куда девочка идёт и подвозили маленькую попутчицу и помощницу. Вдвоём в дороге веселей. Правда, в кабину сажали не всегда. Там иногда уже кто-нибудь сидел и приходилось Зине ехать в кузове машины. Но доехать можно было до Чернёва, а потом дороги для машин в Спицыно не было. От Чернёва в Спицыно была скорее не дорога, а тропа. Здесь машины не ездили. Если только кто-то проезжал на телеге. Но такого она не помнит.
К вечеру уставшая от длинной дороги девочка добиралась до Спицыно. Ноги горели, спина ныла, плечи от верёвок корзины были натёрты до мозолей. И есть хотелось очень-очень.
В селе она просилась на постой. Жители села пускали в дом всегда и всех, если оставалось ещё место, где прилечь поспать. Почти в каждом доме было по несколько постояльцев. За постой хозяева плату не брали, да ещё кормили постояльцев своей картошкой с соленьями. Так было принято тогда и здесь, и в других местах. Действовал старинный принцип: «Сегодня я помогу тебе, а завтра ты поможешь мне». Люди тогда были, наверное добрее, отзывчивее на чужие трудности. Теперь в городах и посёлках люди боятся пускать в свой дом незнакомых людей. Жизнь стала жёстче, прагматичнее.
Сегодня Зине повезло быстро – её пустили в чистый большой дом. Хозяйка поглядела на маленькую девочку, расспросила откуда Зина пришла, чья она. Девочка ответила, что она с хутора Белый, что они Константиновы, а мама её с хутора Мошниковых около деревни Блынки на реке Плюсе. Тогда люди имели большие семьи и поддерживали связь, общались и дружили не только с братьями и сёстрами, но и с дальними родственниками, друзьями. А через общих знакомых узнавали – живы ли, здоровы их родные и друзья. Путник ещё был и источником информации, как теперь называют новости, сведения.
Хозяйка улыбнулась по доброму и позвала девочку в дом. Помогла умыться. Накормила путешественницу и уложила спать.
Утром Зина отправилась занимать очередь в мастерскую. Через несколько дней, когда подошла очередь, мастер взял за работу деньги и часть принесенной шерсти. Для этого Зина в узелке хранила нужную сумму денег, которую ей дала мама.
В мастерской она с интересом смотрела, как шерсть подавали в чесальную машину. Из машины она выходила ровным пушистым слоем. Затем слой резался на станке на узкие полоски шириной около одного сантиметра. Эти полоски с барабана станка наматывались на шпули как нити. Здесь строго соблюдался цвет шерсти. Шпули Зина укладывала в свою корзину в мешке. Рано утром на следующий день после окончания обработки шерсти Зина отправилась лесными дорогами домой. Теперь корзина у неё была заполнена шпулями с расчёсанной шерстью.
Самой ценной была белая шерсть. Из такой шерсти вязали потом красивые теплые шерстяные платки.
Дома шерсть со шпулей пряли на прялке в нитки. Это делала мама Зины – Наталья Леонтьевна или сама Зина по вечерам. Если надо было получить тонкие нитки, то при прядении сильнее натягивали рукой вьющуюся полоску шерсти и сильней её закручивали пальцами. Для носков делали нити толще. Для исподнего мужского белья и портянок нити делали из шерсти и льна. Кажется, что совсем недавно это было, а люди сами себе делали нитки, ткани, материал для них. И одежду часто тоже шили из своих тканей сами.Много тогда умели люди делать сами, своими руками. Но и знаний для всего этого надо было тоже накопить к взрослой жизни. Теперь дети знают много другого, но без электричества, без магазинов суметь сделать себе одежду, обувь, еду сумеют не многие.
Умели тогда женщины и красить ткани. Для этого они использовали соки разных растений. Когда начинался процесс крашения на хуторе или потом в деревне, то в одном доме красили ткани в один цвет, в другом доме – в другой. Делали это несколько семей совместно.
Из нашего времени машин и компьютеров та жизнь представляется каким-то средневековьем. Но именно те умения человека, приобретённые опытом сотен лет и переданных старшими своим детям, позволяют выжить человеку в случае войны, других событий, разрушающих привычную нам цивилизованную жизнь.