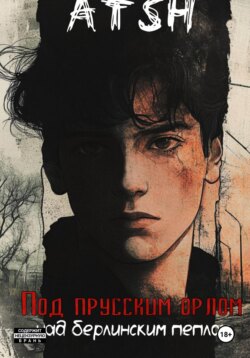Читать книгу Под прусским орлом над берлинским пеплом - - Страница 13
Часть 1
Запись 13
ОглавлениеЕсли лабиринт предсвадебных приготовлений мне удалось обойти стороной, то самого торжества уже было не избежать. Матушка лично объявила подъем, пройдясь по нашим с Гансом комнатам. Гости начали слетаться в родовое гнездо Кесслеров. Небольшая группа родственников уже прибыла, чтобы в скором времени отправиться в Лейпциг, где в церкви должна была состояться свадебная церемония, а затем и само торжество. Мичи, по словам матери, уже находилась там, а нам предстояло присоединиться к ней непосредственно перед началом венчания.
Я не мог не улыбнуться иронии ситуации: браки – это циничные сделки, заключаемые под святыми сводами церкви. Мужчина, выбравший себе в жёны ослепительную красотку с приданым не менее сорока, а лучше семидесяти тысяч золотых марок в год, и она, покорно следовавшая воле родителей, нашедших для неё партию с капиталом в восемьдесят тысяч, – вот идеальный союз, освящённый клятвами любви, верности и взаимоуважения перед лицом Господа Бога. Хотя, если быть честным, "взаимоуважение" в данном случае имеет место быть, ведь потеря семидесяти—восьмидесяти тысяч марок годового дохода – утрата немалая.
В этом мире, где деньги и положение в обществе ценились выше любви и искренности, свадьба Мичи и Максимилиана была лишь одним из многих спектаклей, разыгрываемых на сцене высшего света. И мне, невольному участнику этого фарса, оставалось лишь наблюдать, делать выводы и хранить свои истинные чувства и убеждения глубоко в сердце. Успокоила меня лишь собственная клятва жениться на женщине лишь юридически, либо сожительствовать, но не венчаться.
Я скромно расположился во втором ряду, уступив первый места тем, чьи имена гремели в высшем свете, и, дабы скоротать минуты ожидания, принялся делать наброски будущей статьи, черпая вдохновение в разворачивающейся свадебной церемонии. Мой взгляд то и дело обращался к Гансу, чьё лицо было бледнее алебастра, а поза выдавала крайнюю напряжённость. Он беспокойно метался глазами по залу, ища лазейку к отступлению, а его пальцы судорожно цеплялись за край скамьи, будто он сдерживал себя от необдуманного побега. К счастью для него, никто, кроме меня, не замечал бури, бушевавшей в его душе.
Максимилиан, застывший у алтаря, подобно скульптуре, спрятав руки за спиной, сосредоточенно изучал лики святых на иконах. Его лицо, с мягкими чертами, оставалось непроницаемым, но мне чудилось, что мысли его блуждают, где—то далеко за пределами этой церкви. Скорее всего, он размышлял о предстоящем переезде во Франкфурт, куда ему предстояло отправиться вместе с юной женой после свадьбы, повинуясь велению службы.
И вот, наконец, появилась Мичи, ведомая под руку отцом. Её лицо было лишено каких-либо эмоций, как будто она направлялась не к алтарю, а на обыденную прогулку по парку. Она держала букет и руку отца с непоколебимой уверенностью, её шаг был твёрд и размерен, несмотря на тяжёлый шлейф, струящийся за ней подобно белому водопаду, и пышную фату, окутывающую её облаком.
Невольно в моей памяти всплыл образ фарфоровой куклы в свадебном платье, которую я недавно заметил в витрине магазина игрушек. Бедные девочки, заворожённые её красотой, с восхищением прижимались носами и руками к стеклу, а продавец, хмуря брови, грозил им кулаком, дабы не пачкали витрину своими грязными пальцами. Я и сам тогда замер под чарами, наблюдая за этим хрупким совершенством. Длинные нарисованные ресницы, маленький, лишённый тени улыбки рот, волосы, спрятанные под кружевной фатой, и пышное белое платье, расшитое искусственными цветами… Я купил эту куклу, и ещё одну – для другой девочки, оставшись без единого пфеннига в кармане. Это была моя самая крупная и самая необдуманная покупка, о которой я, впрочем, ни разу не пожалел.
И вот теперь, глядя на Мичи, я невольно улыбнулся. Она была живым воплощением той куклы, холодной и безупречной. И не только она – многие дамы и господа, собравшиеся на этой торжественной церемонии, казались мне фарфоровыми фигурками, лишёнными живых эмоций и подлинных чувств.
По щеке Ганса стекла скупая слеза, которую он торопливо вытер и дрожащими руками ослабил воротник рубашки. Я уверен, многие умилялись, глядя на него, не зная истинной причины его слёз. И я не озвучу, пока не найду доказательств.
В Лейпциге меня ждала иная работа, незримая для присутствующих, но от того не менее важная. Я предвкушал тот час, когда смогу ступить на свой первый открытый агитационный путь, где, не щадя голоса, буду доносить до рабочих пламенные идеи социализма. Я видел себя в гуще споров и дискуссий, готовым отстаивать свои убеждения перед лицом сомневающихся и даже грозных бригадиров, если того потребует ситуация. Это было моё призвание, и я с нетерпением ждал момента, когда смогу полностью ему отдаться.
В предвкушении грядущего события я метался по залу словно заведённый механизм, не в силах найти себе места. Разговоры вокруг меня сливались в невнятный гул, я лишь изредка рассеянно кивал в ответ на вопросы, и даже не заметил присутствия тётушки Юдит и Хеллы, пока вторая не ущипнула меня за бок, упрекая в напускном безразличии.
– Наконец—то Мичи сдалась под напором твоей матушки – прошептала Хелла, подавляя смешок.
– Она просто поняла, что через Максимилиана можно вить верёвки из матери. Вот только не догадывается, что эта идиллия продлится всего пару лет, а потом внимание фрау Кесслер снова переключится, теперь, на Ганса. Даже внуки не спасут – я подмигнул Хелле, и та вспыхнула так ярко, что поспешно прикрылась веером. Раздался сдержанный смешок, затем ещё один, и вот уже Хелла закусила губы, чтобы не расхохотаться во весь голос.
– Ты так любишь свою maman – произнесла она с явным сарказмом.
– Люблю, конечно. Ведь по заднице меня бил только Гидеон и дедушка – парировал я, вызвав новую волну веселья.
Меня искренне радовало видеть Хеллу в таком приподнятом настроении. Её смех зазвенел, как капель, а глаза искрились весельем. Ещё совсем недавно, во время её визита в наш дом, она была погружена в уныние и едва отвечала на вопросы, стараясь избегать любого общения. Но после моего твёрдого заверения сделать все возможное, чтобы предотвратить её нежеланный брак, она словно расцвела на глазах. С её лица исчезла печаль, и она вновь стала похожа на ту жизнерадостную девушку, которой я её всегда знал и любил.
Мы ещё не вступили в тот возраст, когда люди стали бы бросать на наши разговоры косые взгляды. Для них мы были всего лишь глупыми детьми, и все их внимание сосредоточилось на молодожёнах.
Мой взгляд снова обвёл гостиную, ненадолго задерживаясь на лицах родных. Мичи, как всегда, кокетливо щебетала с Максимилианом, её взгляд даже не коснулся Ганса, так она молчаливо его обвиняла. Матушка уже высматривала новую добычу, изящно обмениваясь светскими любезностями с одной из жён князя фон Вальденштейн – человека, близкого к самому Бисмарку. Вся власть Пруссии и вся мощь Германской империи текла сквозь его руки, и истинные прагматики, как моя мать, стремились к его милости, а не к бледному сиянию королевского двора. Она уже видела себя у самого источника влияния, на расстоянии вытянутой руки от министра—президента.
Отец тем временем предавался беззаботному веселью в объятиях дяди Максимилиана. Они бурно обсуждали что—то, их голоса сливались в один весёлый поток, прерываемый взрывами смеха. Господин Дресслер, с усердием искушённого винаря, уже начинал своё деликатное дело, постепенно наполняя бокал отца крепким напитком.
– Редкие моменты, когда Альберт так весел и беззаботен – шепнула тётя Юдит, подойдя ближе. Её тонкий голос прорезал шум празднества, словно тонкий луч света. – Долгое время после смерти Анжелики он вообще почти не разговаривал.
– Анжелики? – переспросил я, чувствуя, как в груди вспыхивает внезапный интерес.
– Да, его первой жены. Он так любил её, что едва не прыгнул за ней в могилу, когда её закапывали – тётя Юдит положила руку мне на плечо, и я застыл, ошеломлённый этой неожиданной подробностью из семейной хроники.
– А что с ней случилось? – тихий голос Хеллы внезапно вмешался в наш разговор.
– Её убил бандит. Беременную зарезал ножом. Она сопротивлялась, и он несколько раз ударил ей в живот – Юдит ответила с горькой тоской в голосе, вспоминая о покойной подруге.
– Какой ужас – выдохнула Хелла, её глаза расширились от страха.
– Анжелика была очень доброй, нежной, как ангел. И глаза голубые, как океаны. А волосы… вся знать завидовала… Густые, волнистые, послушные… Как хорошо, что у Адама появилась Клэр. Конечно, она моментами груба, но она не дала ему уйти за ней… – Тётя Юдит замолчала, окунувшись в волны воспоминаний, а я впился взглядом в мать, в её холодное, расчётливое лицо. Внезапно, словно резким ударом, ко мне пришло понимание, которое долго ускользало от меня, завеса тайны приподнялась, открывая пугающую истину. Было ли это случайностью? Или… Или мать была причастна к этой страшной трагедии? Она же была у Стэна в долгу… А может, она сама убила Анжелику, попросив Стэна взять вину на себя?
– А как вы поняли, что это дело рук того бандита? – спросил я, голос мой был едва слышен, губы сжаты в жёсткую линию.
– Клэр закричала, подняв всех на ноги. Анжелика была её подругой, и она гостевала у нас. Альберт прибежал быстрее всех и увидел Клэр в ночной рубашке, наполовину испачканной в крови. А тот ужасный человек не успел убежать. В его карманах нашли золото. И нож, которым он и убил… Просто воровал, а Анжелика увидела его – Юдит покачала головой, а я бледнел, ужасаясь простоте и жестокости этой истории. Все стало ясно. Стэн взял вину на себя. Мать теперь казалась мне совершенно другой. В её холодных синих глазах заиграл ледяной блеск, блеск бессердечной расчётливости, а может быть… убийцы. Клэр Кесслер… или Клэр Смит… кто же ты такая на самом деле?
В этот миг, словно карточный домик, рухнул весь мир, который я знал. Слово «семья» всегда вызывало во мне чувство холода и отчуждённости, глубокой, неизбывной пустоты. Теперь я понимал, почему. Это не была семья в истинном смысле этого слова. Это была сложная, многослойная ткань, сотканная из лжи, манипуляций и скрытых преступлений. За краской благополучия скрывались расчёт, жестокость и беспредельное стремление к власти. Клэр Смит… это имя теперь звучало для меня не как имя матери, а как определение холодного, амбициозного рассудка, способного на любое преступление. Эта бескомпромиссная женщина, добившаяся всего через обман и преступления, убрала с своего пути преграду в лице Анжелики, лишив жизни женщину, которая стояла на пути её восхождения. Затем, словно хищный паук, она заплела свою сеть из лжи и манипуляций, маскируясь под образ заботливой жены и матери. Мичи, Ганс и я… мы не были детьми, рождёнными из любви. Мы были всего лишь пешками в её холодной, прецизионно распланированной игре, инструментами, призванными обеспечить её безопасность и дальнейшее продвижение по лестнице социального восхождения. Она надеялась держать нас под контролем, манипулируя нашими жизнями с той же бесстрастной точностью, с какой она спланировала убийство Анжелики. Но её расчёт оказался ошибочным. Она потеряла контроль. Или, по крайней мере, это начало рушиться на её глазах. И поняла ли она настоящий масштаб своей ошибки? Поняла ли она, насколько глубоко и безвозвратно она обманулась, построив свой мир на лжи и крови?
Воздух внутри дома сгустился, давя на лёгкие незримым грузом. Оставаться здесь становилось невыносимо. Отчаяние подталкивало к бегству, и я вырвался на улицу, надеясь, что весенний ветер, ласково треплющий молодые листья, рассеет сдавленность в груди. Но с каждым вдохом тошнотворная волна тревоги накрывала меня с новой силой, сжимая желудок холодными пальцами.
Прислонившись к холодным перила, я провёл рукой по карману, нащупав знакомый бархатный мешочек. Горькая улыбка коснулась губ – своеобразное совпадение. Всего пять дней назад, принеся Майе и Юстасу свежий печатный материал, я застал их за столом в их подвальном убежище. Тусклый свет лампы освещал лица, сосредоточенные и задумчивые. Они пили слабый чай, откусывая куски солёного хлеба, и обсуждали предстоящую агитацию. Воздух был наполнен плотным, терпким дымом юстасовой трубки, а Майя в это время аккуратно штопала разорванный революционный транспарант.
– Ты болеешь чахоткой, Юстас, и при этом куришь – упрекнул я его, постаравшись придать своим словам лёгкий ироничный оттенок.
– А как же тут не курить? Еды нет, остаётся только перебиваться сигаретным дымом да хлебом с чаем – ответил он спокойно, без капли самоупрёка.
– И ты закуришь – пророчески улыбнулась Майя.
– Вот ещё! Не закурю – заявил я, стараясь скрыть внутреннее беспокойство за своё здоровье.
Из глубины ящика Майя извлекла бархатный мешочек с табаком, и когда я начал отказываться, с улыбкой сунула его мне в карман.
– Иногда так нервно и голодно бывает, что курю даже я, – сказала она, её глаза были серьёзны и проницательны. – И тебя прижмёт.
И прижало. Сейчас, один, на холодном весеннем воздухе, я вынул мешочек. Знакомый терпкий аромат ударил в ноздри, вызывая волну воспоминаний о бесконечных революционных собраниях, пропитанных дымом разных табаков. Я достал из кармана бумажку, аккуратно вынул из мешочка необходимое количество табака, затем ловко свернул сигарету, привычное движение рук было спокойно и уверенно. Чиркнула спичка, яркий огонёк мгновенно осветил моё лицо. Я закурил. Горьковатый дым, обволакивая рот и горло, вызвал сильный кашель, резкий и пронзительный. И в этом кашле, в этой физической боли, я нашёл некоторое освобождение, первый глоток воздуха после тяжёлого известия.
Сигарета, как глоток свежего воздуха, взбодрила меня и помогла дождаться нужного часа. Со спокойствием, которое самому себе казалось удивительным, я набросал текст первой речи, заучил его дословно, вживаясь в каждое слово, каждую интонацию. И как только часы пробили пять вечера, я, сославшись на желание прокатиться верхом, попросил у отца разрешения взять одну из наших лошадей и отправился в город.
Моей целью была крупная хлопчатобумажная фабрика, принадлежавшая фрау Надин Салуорри. Сердце фабрики – огромный цех, где в густом тумане хлопковой пыли день за днём трудились женщины. Их руки, искусные и ловкие, словно жили отдельной жизнью, быстро и точно перебирая нити, вплетая их в сложную симфонию ткацкого станка. Белые фартуки, словно символ чистоты и трудолюбия, укрывали их простые платья, а на лицах, усталых, но сосредоточенных, отражался весь тяжёлый ритм фабричной жизни. Шум станков, сливаясь в единый гул, казался голосом самой фабрики, безжалостным и неумолимым.
Руководил этим женским царством мужчина—бригадир, грубый и властный надсмотрщик, в чьих обязанностях была не только организация работы, но и починка капризных ткацких станков. Говорили, что фрау Салуорри строго запрещала эксплуатировать детский труд, и детям до пятнадцати—шестнадцати лет доступ на фабрику был закрыт. Более того, ходили слухи, что она даже ввела повышенные зарплаты и льготы для своих работниц. Но все это были лишь слухи, не подтверждённые фактами. И моя задача была не только в том, чтобы донести до этих женщин идеи Маркса, но и провести своеобразную разведку для Юстаса, собрать информацию об истинных условиях их труда. Ведь довольные и сытые рабочие никогда не поддержат революцию. И меня мог ждать сокрушительный провал, если бы слухи оказались правдой.
Проскользнув в цех, воспользовавшись минутной отлучкой охранника, я замер у входа, стараясь не привлекать к себе внимания. Передо мной открылась картина, полная жизни и энергии, несмотря на явную усталость работниц. Женщины, словно неутомимые пчелы в улье, бойко сновали между станками, их движения были отточены до автоматизма, но при этом не лишены изящества. Одни ловко перебирали нити, их пальцы танцевали среди бесконечных нитей, распутывая сложные узлы и сплетения. Другие заправляли ткацкие станки, их руки порхали над челноками с невероятной скоростью и точностью, как будто играя на невидимом музыкальном инструменте. Третьи складывали готовые отрезы ткани, их движения были плавными и ритмичными.
И сквозь шум станков и шелест нитей, скрип механизмов, пробивались обрывки песен. Женщины пели, их голоса, усталые, но полные жизни, сливались в единый хор, который пытался заглушить безжалостный ритм фабрики. В этих песнях было все – и тоска по родному дому, и тяжесть нелёгкой женской доли, и надежда на лучшее будущее.
Да, их лица были бледны, а спины сгорблены от долгих часов работы. Но в их глазах, несмотря на усталость, все ещё теплился огонёк жизни. И их песни вырывались из клетки фабричных стен, стремясь к свободе и свету.
И я понял, что мои опасения могли быть напрасны. Эти женщины, несмотря на все тяготы своей жизни, не сломлены. В них живёт дух борьбы, желание изменить свою судьбу. И может быть, именно им суждено стать той силой, которая разрушит стены капиталистической тюрьмы и принесёт в этот мир долгожданную свободу.
Я, притворяясь заботливым братом, стремящимся устроить сестру на работу, неторопливо прогуливался между станками, задавая работницам ненавязчивые вопросы об условиях труда.
– Я хочу устроить на работу сестру, скажите, какие здесь условия? – спросил я у одной из ткачих, её руки быстро и ловко перебирали нити.
– Хорошие. Я не ушла в своё время, когда все бежали, осталась у Салуорри и нарадоваться не могу. Дочку по жизни устроила – она улыбнулась, и её лицо озарилось теплом и гордостью.
–Работать тяжело? – продолжил я свой допрос.
– Ну как не тяжело? Тяжело, сынок, где легко? Но у нас и выходной есть, и работаем посменно – ответила она, не прекращая работы.
– А медицинская помощь? – не унимался я.
– Че? – она на мгновение отвлеклась от своих дел, взглянув на меня с недоумением.
– Врач, говорю, имеется? – уточнил я свой вопрос.
– Имеется, сынок, имеется – она снова улыбнулась и вернулась к своей работе.
Внезапно я почувствовал на себе чьей—то взгляд. Оглянулся, стараясь незаметно осмотреть цех, но не мог понять, откуда исходит это ощущение наблюдения. Наконец, я его увидел. Мужчина высокого роста, довольно молодой, с безупречными манерами и осанкой аристократа. Он стоял, закутанный в черное шерстяное пальто, небрежно опершись на балюстраду. Его скучающий взгляд, холодный и проницательный, словно взгляд льва, окидывающего своё владение, скользил по цеху, на мгновение остановившись на мне. Я показался ему досадной мухой, нарушившей покой его царства. Его лицо казалось мне знакомым, но я никак не мог вспомнить, где я его видел. Точно не в партии. Скорее всего, на одном из светских раутов, куда меня иногда брала с собой мать. Может быть, он был управляющим или бухгалтером фрау Салуорри? И, кажется, он понял, кто я и зачем я здесь.
Мои догадки подтвердились буквально через несколько минут. Судьба, словно играя со мной в кошки—мышки, послала мне бригадира, который внезапно материализовался у меня за спиной.
– Господин Сальваторе желает Вас видеть – сказал он своим хриплым голосом, и я послушно последовал за ним.
Мы поднялись на второй этаж, и я оказался рядом с управляющим. Вблизи он казался ещё более внушительным и величественным, нежели издали. Его прямая спина, гордая осанка и проницательный взгляд говорили о власти и уверенности в себе. Он больше походил на хозяина фабрики, чем сама фрау Салуорри. В его серо—голубых глазах плескалась непоколебимая уверенность и холод, а губы были сомкнуты в тонкую, жёсткую линию. Я кивнул ему в знак приветствия, но он даже не потрудился ответить.
– Ваша матушка не будет против, что Вы оказались в этом аду? – спросил он, не отрывая взгляда от кипящей жизни цеха.
– Думаю, ей все равно – ответил я, стараясь говорить спокойно и уверенно, хотя внутри все сжималось от тревоги. – Сегодня у моей сестры Микаэлы и Максимилиана Дресслера свадьба. Они все там, в Лейпцигском особняке.
– А Вы, значит, воспользовались моментом, чтобы провести агитацию среди моих рабочих? – его голос был тихим и мягким, словно мурлыканье кота, но в этой мягкости чувствовался скрытый стержень. Я изобразил удивление, повернувшись к нему с готовым возражением на губах, но слова замерли, не родившись. В руках Сальваторе я увидел листок бумаги, на котором был написан текст моей речи.
Я замялся, почувствовав, как пунцовость приливает к лицу. Моё амплуа заботливого брата рассыпалась на куски, раскрывая истинную цель. Молодой человек даже не удивился, его глаза оставались холодными и спокойными.
– Агитируйте, вот Ваша трибуна – сказал он, слегка отойдя в сторону и указывая на цех. Сальваторе был абсолютно уверен в своих работницах. Он знал, что они даже не станут меня слушать.
И я, сгорая от стыда и волнения, забрался на небольшую возвышенность, служащую своеобразной трибуной. Внезапно я понял, что совершенно забыл свой тщательно заученный текст. Страх и смущение парализовали меня. Ещё никогда я не чувствовал себя настолько уязвимым и опозоренным. И, к моему удивлению, я не увидел в глазах Сальваторе торжества или злорадства. Там теплилось нечто другое… Разочарование?
– Уважаемые работницы, товарищи! Сёстры!
Каждый день, приходя в цех, я вижу ваши усталые лица, ваши руки, истерзанные тяжёлым трудом. Я слышу грохот станков, который заглушает ваши песни, ваши мечты, ваши надежды.
Вы проводите здесь, в этих стенах, большую часть своей жизни, отдавая свои силы, свою молодость, своё здоровье на благо госпожи Салуорри и других капиталистов. Вы создаёте богатство своими руками, но сами живете в нищете и лишениях. Ваши дети голодают, ваши семьи ютятся в тесных, сырых квартирах, а ваши мужья и братья гибнут на войнах, которые развязывают буржуи ради своих прибылей.
Задумайтесь, кому выгодно такое положение вещёй? Кому нужна эта система, где одни живут в роскоши, а другие влачат жалкое существование?
Только буржуям! Только капиталистам! Они наживаются на вашем труде и горе!
Но так не должно быть! Не должно быть разделения на богатых и бедных, на господ и рабов!
Мы – рабочий класс – являемся основой этого общества. Мы создаём все материальные блага, мы двигаем прогресс, мы строим будущее! И мы имеем право на достойную жизнь! Мы имеем право на справедливую долю того богатства, которое создаём своими руками!
Настало время сказать «хватит»! Настало время сбросить с себя оковы капиталистического рабства! Настало время взять власть в свои руки!
Только мы сами можем изменить свою жизнь! Только объединившись, мы сможем построить новое, справедливое общество, где не будет эксплуатации и угнетения, где каждый человек будет иметь право на труд, отдых, образование и медицинскую помощь!
Вступайте в наши ряды! Боритесь вместе с нами за свои права! За светлое будущее для себя и своих детей!
Да здравствует рабочий класс! Да здравствует социалистическая революция! – голос Сальваторе, подобно грому, прокатился по цеху, заставив станки замолчать и сердца учащённо биться. Работницы, словно заворожённые, поднимались со своих мест, их взгляды были прикованы к руководителю, чьи слова, клинком, рассекали затхлый воздух. Бригадир, подобно медведю, разбуженный посреди зимней спячки, лениво почесал затылок и, скрестив руки на груди, прислонился к массивной колонне, наблюдая за происходящим.
– Вы живёте хорошо, трудясь на госпожу Салуорри, – продолжал Сальваторе, его голос наполнился горечью, – но другие немцы стонут под жестоким гнетом капиталистов, лишённые всякой поддержки!
– Вас же уволят! – прошептал я, чувствуя, как страх перебирает кишки.
– И что же нам делать? – послышался робкий голос из толпы.
Внезапная смелость охватила меня. Я вытащил из кармана пачку листовок и бросил их вниз. Рабочие тут же набросились на них, жадно хватая и читая.
– Господин Кесслер, – голос Сальваторе пропитан был едкой иронией, хотя бледное лицо оставалось бесстрастным, – не забывайте агитировать на своих заводах. У вас там, насколько мне известно, условия намного хуже. Не стоит прятаться за спинами тех, кого вы поддерживаете. Лучше быть отвергнутым, чем трусом. А теперь бегите, пока я не натравил на вас охранников.
Едва он закончил фразу, как бригадир двинулся в мою сторону, его тяжёлые шаги отдавались эхом в напряженной тишине цеха. Паника захлестнула меня, я не успел даже спросить имя управляющего, узнать, что движет этим человеком – гнев, чувство долга или, может, он поддерживал эти убеждения? Мысли путались, ноги сами несли меня прочь, сердце бешено колотилось в груди, лёгкие горели огнём. Я бежал, спотыкаясь и задыхаясь, сквозь лабиринт узких улочек, окутанных темнотой и пропитанных запахом угля и бедности. Моя лошадь ждала в баре на окраине квартала, и я стремился к ней, ища спасения в седле. Только когда я вскочил на лошадь и помчался прочь, в голове вспыхнула тревожная мысль: я оставил Сальваторе листок с речью. Листок, который мог стать моим приговором. Он мог запросто отнести его жандармам, и тогда мои дни были бы сочтены. Оставалось жить в постоянном ожидании ареста, словно приговорённый, каждый шорох принимая за шаги жандармов, пришедших забрать меня. Каждый день мог стать последним.