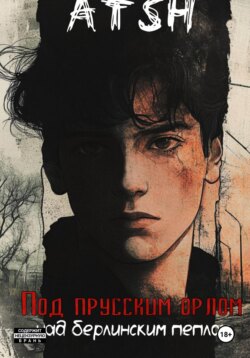Читать книгу Под прусским орлом над берлинским пеплом - - Страница 2
Часть 1
Запись 2
ОглавлениеЗавести этот дневник меня побудила внутренняя, почти маниакальная любовь к наблюдениям, к фиксации мельчайших деталей окружающей действительности. Ведь память – вещь коварная и изменчивая: чтобы запомнить что—то новое, надо забыть старое. А я хочу детально отобразить всё, что происходило и происходит в моей семье, в моей жизни, будто бы создавая точный слепок ускользающего времени.
Недавно умер Эдвард Кесслер, патриарх нашего семейства, человек с железной волей и ледяным спокойствием. Он полностью передал своё наследство – движимое и недвижимое, материальное и духовное – во владения моему отцу Альберту, как бы передавая ему эстафетную палочку в бесконечном марафоне главенства. Я бы не сказал, что с господином Кесслером мы были в идеальных отношениях. Он никогда не лицемерил со мной, был по—военному прямолинейным, говорил правдву в глаза и ругал исключительно за дело, но я не мог открыться ему полностью. По каким причинам… Сам не знаю. Возможно, между нами стояла невидимая стена из разных поколений, и, соответственно разных взглядов на мир.
Он умер тихо, без стонов и жалоб, в своём любимом кресле напротив камина, снова зачитавшись до поздней ночи французскую книжку, точно в последний раз погружаясь в мир изящной словесности и философских размышлений. Никто из нас не шумел, не рыдал навзрыд, не рвал на себе волосы от горя. Все мы были готовы к этому исходу, поскольку дедушке стукнуло уже за восемьдесят лет, и его жизнь, подобно старинным часам, отсчитывала свои последние секунды.
Слуги, с печальными лицами обмыли старика, одели на него саван, готовя его к последнему путешествию, и до самого утра отец не отходил от него, молча сидя рядом, охраняя покой ушедшего командира. Может быть, он вспоминал все те дни, когда Эдвард дарил ему отцовскую ласку или же порол до боли в рёбрах, вкладывая в него силу духа и непоколебимую дисциплину.
Восприимчивая к темам смерти и похоронных процессий Мичи, заперлась в своей комнате с Гансом, и он долго убаюкивал её на своих коленях, точно маленького ребёнка, читая ей стихи и романы, отвлекая от мрачных мыслей и наполняя её душу красотой и гармонией.
Мама появлялась редко, и напоминала приведение, блуждающего по коридорам дома. Она как бы пряталась от неизбежности судьбы. Я видел её в кабинете отца, согнувшейся под бледным светом свечи, читающей документы, на остальное отвлекаться, видимо, ей не хотелось. Она обхватила голову руками, так что едва было видно её бледное, измученное лицо, точно она пыталась удержать в себе всё то горе и отчаяние, которые грозили разрушить её изнутри. (Или мне так казалось)
Я же шагал по дому туда—сюда, из комнаты в комнату, всё снова и снова возвращался к телу, точно магнитом притягиваемый к эпицентру скорби. Пару раз заставал отца, спящим на собственной руке, прижатой к холодному боку гроба, будто бы он пытался передать часть своего тепла ушедшему отцу. Я никогда не был суеверным или верующим в полном смысле этого слова, но почему—то всё ожидал, что дедушка резко откроет глаза, будто пробуждаясь от тяжёлого сна, или сядет в гробу, озираясь по сторонам с недоумением, или выглянет в дверной проём из тёмного коридора, как бы проверяя, все ли на своих местах. К его комнате я и вовсе боялся подходить, точно там таилась какая—то неизвестная опасность, чтобы не услышать его бормотание, шелест страниц документов или странные скрипы старой мебели.
Необъяснимое ощущение пустоты и нереальности повисло в воздухе, будто мир вокруг потерял свои привычные очертания. Его энергия ещё не покинула дом, она витала в каждом уголке, в каждой вещи, которой он касался ещё пару часов назад: в кресле, где он сидел и изредка покачивался, как бы убаюкивая свои мысли; в книгах, что он читал; в картинах на стенах, которые он так долго и внимательно. Всё вокруг было наполнено ожиданием, что он сейчас спустится со второго этажа в своей бархатной робе и сядет в кресло снова, возьмёт в руки книгу и продолжит своё чтение. Но потом мой взгляд возвращался к неподвижному мертвецу в гробу, и я тягостно вздыхал, осознавая необратимость происходящего.
Так прошла первая ночь, полная тяжёлых мыслей и неопределённых предчувствий. На следующий день приехали знакомые и друзья семьи, чтобы отдать последнюю почесть ушедшему патриарху. Поскольку была зима, и дорога до церкви была засыпана снегом, священника решили пригласить в дом. Под двадцатиминутное отпевание, полное церковных песнопений и молитв, нам был дан шанс проститься с с любимым Кесслером в последний раз, поцеловав его холодный лоб. И в этот момент бедняжка Мичи, не выдержав напряжения и горя, потеряла сознание, подобно огоньку на тоненькой свече, погасшему от порыва ветра. Я внимательно наблюдал за толпой скорбящих, их лица были искажены масками печали и сочувствия, в том числе и за матерью, которая лишь нервно дёрнула пухлыми, будто нарисованными, губами, как бы скрывая свои истинные чувства под маской неприступности.
Клэр Кесслер, моя мать, графиня фон Ведель, терпеть не могла, когда на публике кто—то из нашей семьи попадал в неловкие ситуации, точно это было личным оскорблением её безупречной репутации. Будь то выбившаяся прядь из косы Мичи, неровный воротничок Ганса, или, что было чаще всего, перепутанные по детской глупости комнаты или коридоры в нашем огромном доме. Контроль был для матери всем, её стихией, её религией. Всегда строгая, требовательная, всегда державшая руку на пульсе, она впадала в быстрое разочарование в нас от малейшей ошибки и от любого отклонения от её идеала. Мы должны были быть куклами, фарфоровыми статуэтками в её коллекции, без единого пятнышка и царапины. Мы не должны были громко пить чай или есть ягоды исключительно так, чтобы на губах не оставалось ни одного пятнышка от сока. Я представляю, как она торопливо проходила мимо меня, морщась от отвращения, когда я, будучи малышом, подобно варвару, с пятнами от каши на щеках, требовал от служанки новую ложку. Дедушка рассказывал, что мама не брала меня на руки в младенчестве, в страхе, что я срыгну на её дорогой кашемировый платок.
Я расписал всё это так подробно, чтобы в дальнейшем внимательно наблюдать, как она безжалостно будет отчитывать мою сестру за её обморок, едва только мы вернёмся домой с похорон. Её гнев будет страшен, как гроза, её слова – остры, как кинжалы. Мичи придётся несладко.
Священник, закончив отпевание, перекрестил гроб, обшитый чёрным сукном, напоминающим ночное небо. Крепкие, широкоплечие носильщики из слуг молча подняли гроб, мысленно прощаясь со старым хозяином, который всегда относился к ним совсем неплохо. Они ещё полностью не встретились с контролирующей натурой матери, вступающей в хозяйки дома с этого дня, но доводилось мне часто слышать перешёптывания слуг, что графиня фон Ведель – та ещё демоница в юбке, способная превратить жизнь своих подчинённых в ад.
Моё перо скрипело по тонкому пергаменту, оставляя за собой извилистый след чернил. За окном стыдливо пряталось солнце, и серые сумерки, шалью, окутывали старый особняк. В воздухе ещё витал горьковатый запах ладана и воска, ставшими эхом ушедшего дня. И я, принюхавшись, снова погрузился в воспоминания.
Итак, моё прощание оборвалось резко. Костлявые, узловатые пальцы приходящей учительницы Ирмы Хомбург, похожие на ветви старого дерева, сомкнулись на моих плечах, увлекая в душную тишину кабинета. Там, среди тяжёлых шкафов и пожелтевших страниц, меня ждал холодный мрамор немецкой поэзии – «Ночная песнь странника», которую я должен был декламировать, несмотря на тяжесть, давившую на сердце.
Учёба стала для меня спасением в траурном доме. Книги распахивали передо мной двери в иные миры, где герои сражались, любили и страдали, философы освещали запутанные тропы бытия, а психологи шептали на ухо, что одиночество – не приговор, и любовь к себе – единственный маяк во тьме.
И пока я, склонившись над листом, выводил буквы, в доме, как я и предчувствовал, разыгрывалась буря. Мама, сдерживавшаяся при посторонних, теперь сорвала с лица маску равнодушия, и обратилась в разъярённую гарпию, обрушив свой гнев на Микаэлу.
Слова долетали до меня обрывками. «Зачем пошла на прощание, если знаешь, что падаешь в обморок?!» – голос звенел, как церковный колокол. «Но это мне неподвластно…» – тихо отвечала Мичи, её же голос дрожал, как тонкая ножовка от лишнего движения. «Ты отвратительная мерзавка!» – взревела мать, ожидая, видимо, покорного молчания. Но Микаэла с пламенным сердцем, вновь и вновь бросала в лицо матери горькое «Я ненавижу Вас!», пытаясь пробить броню маминого равнодушия.
Резкий шлепок рассёк тишину, а затем раздался грохот. Нет, Мичи не упала. Это был Ганс, ворвавшийся в комнату, чтобы защитить свою любимую погодку. «Убирайтесь, мама! То, что папа получил наследство, ещё не значит, что вы тут единственная владычица! Убирайтесь, я вам говорю, и никогда больше не трогайте Мичи!» – его голос гремел, как гром, перекрывая рыдания Микаэлы, умевшей доводить любую драму до трагического апогея.
Я слушал, чувствуя, как щеки горят от неловкости и стыда. Но вскоре неловкость отступила, уступив место другому чувству. Разве не затем я и веду этот дневник, чтобы запечатлеть не только факты, но и эмоции, что они вызывают? И я бы солгал, если бы сказал, что во мне ничего не дрогнуло, когда мать ударила Микаэлу. Я был бы чёрствым камнем, если бы не встал и не пошёл к ней, движимый детским сердцем, полным любви и сострадания.
Я нашёл их в комнате Мичи. Она сидела на кровати, утонув в объятиях Ганса, её рыжие локоны, растрёпанные после пощёчины, лежали на его руке, пока он нежно гладил её хрупкую спину. «Ох, Ганс, за что она так жестока со мной?» – всхлипывала Мичи. «Ей удачная сделка с каким—нибудь банком намного важнее родных детей, Мишель, пора к этому привыкнуть» – горько ответил Ганс. «Она тебя любит, а меня ненавидит. Она занимается с тобой французским, а я…а я..?!» – жаловалась сестра, и её слёзы катились по веснушчатым щекам
В этот момент Ганс заметил меня. Его тело напряглось и сжалось пружиной, он застыл, превратившись в изваяние из плоти и крови. Мичи оторвалась от него и повернула ко мне голову. В её глазах, красных от слёз, я прочитал немой вопрос… и ещё что—то, может быть презрение.
– Что тебе здесь надо, Адам? – резкий, как пощёчина, голос Ганса заставил меня вздрогнуть. Он выделил моё имя, и всегда его очень сильно выделял, даже с издёвкой. – Ты разве не помнишь, что я говорил тебе: никогда не посещать наши комнаты.
Его худощавая фигура заслонила собой проем двери, и я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Мичи сидела на кровати, с поджатыми ногами, обхватив себя руками, и дрожала бледная в надвигающейся панике. Её лицо, красное от слёз, исказилось в злобе, и когда она заговорила, её голос завибрировал от ненависти:
– Иди доложи мамочке, как я тут плачу и страдаю! О—о—о, мне не описать словами, как я тебя ненавижу! Извечно всего добиваешься! Но теперь твои праздные деньки кончились! Дедушка умер и тебя больше никто защищать не будет! Тебя хоть раз они били? Хоть шрамик на твоём уродском теле есть?!
Она вдруг вскочила с кровати и бросилась ко мне, пальцами вцепляясь в мою рубашку и сжимая ткань и кожу вместе с ней до боли. Я попытался освободиться, но она трясла меня, как тряпичную куклу, круглые глаза горели зелёным едким безумием.
– Ты не права, Мичи, – тихо сказал я, стараясь сохранять спокойствие, хотя внутри всё кипело от гнева.
– Не права? В чём? Опровергни, ублюдок! – она сжала мою сорочку ещё сильнее, её дыхание обжигало мне лицо. Челюсть Микаэлы тряслась, и заметив моё замешательство, её хозяйка плюнула мне прямо в лицо.
Я молчал, чувствуя, как воздух застревает в горле от обиды. И тогда вперёд выступил Ганс. Он подошёл ко мне вплотную, его взгляд был холодным и презрительным, таким же взглядом он смотрел на насекомых, не достойных даже внимания. Мичи засмеялась, её смех был похож на звон разбитого стекла, он резал слух и заставлял меня съёживаться от отвращения и ужаса. Я с остервенением стёр с себя сестринскую слюну, платком, вытащенным из кармана, и бросил этот платок через Ганса, прямо ей в лицо.
– Ты ничем не лучше неё, – сказал я, наконец обретая дар речи, и мой голос звучал ровно и жёстко, как сталь. – Ты – полная копия матери, считающая своё состояние высшим проявлением благодетели и различия. Ты также, как и она, считаешь собственное эго превыше чувств других, и поэтому ты, дорогая Мичи, сталкиваешься с матерью. Потому что она слишком любит и жалеет себя, а ты – себя.
В тот же миг меня грубо оттолкнули, и я вылетел за дверь, словно ненужный сор. Дверь захлопнулась с грохотом, оставляя меня наедине с пульсирующей болью в груди и горьким ощущением обиды.
Рука дрожит, выводя неровные строчки, и в голове снова и снова звучат обрывки разговора, раскалённого до предела ненавистью и отчаянием. Я ненавидел эти скандалы, бесконечную ненависть, которая пропитала каждый уголок нашего дома. Я хотел лишь тишины и покоя, но в этих стенах их не было, и я чувствовал себя чужим, затерянным и ненужным.