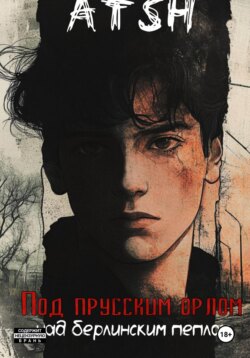Читать книгу Под прусским орлом над берлинским пеплом - - Страница 15
Часть 1
Запись 15
ОглавлениеДесять дней назад, когда небо ещё только наливалось первыми красками зари, Бернд растворился в предрассветной дымке. В его нехитром багаже лежала не только смена белья и скудные пожитки, но и скромная горсть моих сбережений – посевной материал для новой жизни на чужой земле. Сердце щемило, но я знал – это необходимо. Заботливая Катрина, не покладая рук собирала нектар возможностей, облетая все уголки Миттена в поисках подходящего места для Бернда. И вот удача улыбнулась: к моменту отъезда у порога дома его уже дожидался некто господин Хенляйн, чьё имя – миттенский нотариус – произносилось в округе с почтительным придыханием. Этот человек, облечённый властью и влиянием, сулил дяде не просто обучение какому-то ремеслу, а настоящее посвящение в таинства юриспруденции, а впоследствии и «чистую» работу, щедро приправленную обещаниями солидного, более чем достаточного заработка. Бернд, обладающий цепким, проницательным умом и ненасытной жаждой знаний, был, безусловно, желанным учеником. Хенляйн позаботился и о жилище, предоставив им временный кров – просторную, по слухам, комнату в своём доме. Она должна была стать не тесной клеткой, а своего рода гнездом, где они смогли бы удобно разместиться, не стесняя друг друга. По крайней мере, так утверждал Хенляйн.
Камень тревоги, давивший на грудь, чуть сдвинулся с места. Мысль о том, что Бернд попадёт в лапы моей матери терзала меня. Но Хенляйн… Человек с положением, с именем. В этом мире, где справедливость часто склонялась к тем, у кого громче звенят монеты в кармане, положение Хенляйна служило своеобразным оберегом. Конечно, это циничное утешение, но всё же это давало хоть какую—то надежду, иллюзорное, но такое необходимое чувство безопасности для Бернда. Полиция охотнее станет разбираться, если что—то случится с протеже нотариуса, чем с безымянным бродягой. Эта мысль, хоть и пропитанная горечью, теплила в моей душе крошечный огонёк успокоения.
Подводя черту под нашей короткой, но оставившей глубокий след встрече, я могу сказать лишь одно: я безмерно рад знакомству с этим человеком. Бернд поразил меня ясным взглядом на мир, какой—то внутренней силой, которая просвечивала сквозь его скромность. В нем чувствовалась надёжная опора, здравомыслие, не свойственное его молодым годам. Он оказался тем редким типом родственника, которым можно гордиться, и на которого можно положиться. И эта мысль согревала. Рядом с тёплыми, полными нежности образами Юдит и её детей, которые всегда будут жить в моём сердце, теперь навсегда поселился светлый лик Бернда Смита. Лицо, озарённое лучами надежды, лицо, которое, я верю, ещё не раз осветит этот мир улыбкой. И эта вера была для меня важнее всех богатств мира.
Майя стала частью моего повседневного бытия. Верный данному себе слову, я приглядывал за ней, периодически появляясь на её пороге с нехитрым пропитанием. Поначалу она гордо отказывалась от моей помощи, но я с тайным удовлетворением наблюдал, как запасы, оставленные мной, постепенно тают. Писатель, благодаря своим связям, нашёл для неё и Юстаса крошечную комнатку. Конечно, условия были более чем скромными: в этой коммунальной квартире, помимо них, ютилось ещё семь человек. Воздух был пропитан запахами бедности, постоянно слышались кашель, детский плач, но лицо Майи светилось счастьем – ведь это было несравнимо лучше сырого и холодного подвала.
Она устроилась на хлопчатобумажную фабрику Салуорри и, получив первую зарплату, львиную долю отправила в Друскининкай и Замосць, поддержав семью и оплатила жильё. Юстасу же гордо сообщила, что прекрасно справляется сама и ни в чем не нуждается. В такие моменты я засматривался на эту девушку, мудрую не по годам, поражаясь её самопожертвованию во благо других. Эта черта, казалось, была врождённой у всех революционеров. Сам будет голодать и мёрзнуть, а последний кусок хлеба отдаст нуждающемуся… И тут меня осенила мысль: скорее всего, Майя делилась принесённой едой с многодетной семьёй из той же коммуналки.
Именно тогда, вдохновлённый примером Майи, я, наконец, набрался смелости и приступил к изучению одного из фундаментальных трудов коммунистической идеи – «Капитала» Карла Маркса. Сложный, порой запутанный язык философии давался мне с трудом. Несмотря на мою врождённую усидчивость и дисциплину, приходилось перечитывать некоторые абзацы снова и снова, словно распутывая замысловатый узел. И вот, что мне удалось постичь: теорию прибавочной стоимости, порождающую неизбежную классовую борьбу между буржуазией и пролетариатом; товарный фетишизм, скрывающий истинные отношения между людьми; циклическую природу капитализма, обречённого на кризисы перепроизводства; и, наконец, неизбежность наступления социализма, как логического итога развития истории.
Эта последняя мысль заставила меня задуматься. Даже если революция победит, капитализм, словно гидра, может возродиться из пепла. Возможно, мы не доживём до этого мрачного дня… а может, и доживём. И даже тогда, через многие десятилетия, социализм все равно восторжествует, хоть мы этого и не увидим. Но какой бы ни был исход, единственный верный путь – продолжать бороться. Ведь Маркс и Энгельс, несмотря на поражения и преследования, не сложили оружия. Их идеи, словно семена, разлетелись по всему миру, пустили корни в разных странах, о чем красноречиво свидетельствовали газетные вырезки, которые я бережно собирал. И эта мысль вдохновляла меня больше всего.
Под впечатлением от прочитанного, словно охваченный пророческим духом, я написал Юстасу длинное письмо, изложив свои выводы и размышления. Он просил держать его в курсе моих наблюдений, моего постепенного погружения в пучину коммунистической философии, и я с рвением неофита выполнял его просьбу.
Увы, вместе с интеллектуальным просветлением в мою жизнь прокралась и пагубная привычка – курение. То блаженное расслабление, которое я испытал в день свадьбы Мичи и Максимилиана, оказалось коварным соблазном. Мой организм решил, что трубка с мягким табаком – лучшее лекарство от душевных терзаний. И теперь каждый вечер, словно ритуал, я отдавал дань этому новому пороку, после чего проваливался в глубокий, безмятежный сон, чтобы к пяти утра встретить рассвет бодрым и отдохнувшим.
В самом доме царила странная, гнетущая тишина. Он словно замер, оцепенел, однажды глубоко вдохнув свежего воздуха и теперь боясь нарушить хрупкое равновесие. Я больше не видел Ганса, старательно избегая встреч с ним, обедая то раньше, то позже всех остальных. Семейство Кесслер дрейфовало в океане собственных проблем и планов, предпочитая не замечать друг друга. Только Клэр и отец постоянно совещались, о чём-то важном, их голоса, словно нити заговора, переплетались в тишине кабинета.
Я же, движимый жаждой правды, не собирался отказываться от своего расследования. Специально заведённая папка с компроматом постепенно толстела. На листах бумаги вырисовывалась приблизительная картина происходящего, словно мозаика, собранная из обрывков подслушанных разговоров. Но мне нужны были более весомые улики. Я подозревал, что ключ к тайне Анжелики хранится в кабинете отца, но не исключал и библиотеку. Ведь дедушка, когда-то сказал мне мудрые слова: «Библиотека хранит не только книги, но и все сведения о доме, от самого первого его жильца».
Эта папка, тяжёлая от секретов, стала своеобразной страховкой в этой опасной игре. Я ещё не знал, как именно распоряжусь собранным компроматом, но предчувствовал, что, когда-нибудь он может спасти мне жизнь. Эта мысль дарила иллюзорное чувство безопасности. Но я отдавал себе отчёт, что злоупотреблять этим оружием нельзя.
Я знал, что, когда-нибудь, оглядываясь назад, я осужу себя за эту холодную расчётливость. Но, вырастая в этом кишащем «террариуме» живых паразитов, я невольно научился их же методам. Здесь, в этом доме, тебя мгновенно примут за беззащитного дождевого червя и съедят живьём, если ты сам не покажешь зубы, не научишься кусаться. Это был жестокий урок выживания, и я усвоил его на отлично.
В пятницу почтальон доставил весточку от Мичи, тонкий конверт с франкфуртским штемпелем. Клэр, с трепетом в руках, вскрыла письмо и вслух прочитала известия от дочери. Мичи писала о своей новой жизни, о переезде в просторный дом Максимилиана, где можно было днями бродить по одной его половине, так и не встретив мужа, погруженного в работу в другой. Описывала свою повседневность, наполненную визитами в светские салоны – дамы, знакомые с Максимилианом, оказывали ей явное внимание. Дни пролетали незаметно за рукоделием, музыкой и чтением; иногда Мичи отправлялась на верховые прогулки, вдыхая свежий воздух свободы. И, конечно же, как и полагается даме её круга, решила совершенствоваться в английском. В её письме просвечивали и дальновидные планы: после поездки в Санкт—Петербург Мичи намеревалась завести ребёнка, чтобы окончательно укрепить своё положение в доме Дресслеров, словно пустив корни в плодородную почву.
Лицо Клэр, слушавшей письмо, сияло. Не просто благоговением, а чем—то большим – торжеством матери, чей тщательно выстроенный план блистательно воплощался в жизнь. В каждом слове Мичи она слышала не только рассказ о повседневности, но и подтверждение своего собственного успеха. Дочь занимала положенное ей место в высшем свете, вращаясь среди влиятельных людей, купаясь в лучах богатства и уважения. Это была не просто удачная партия для Мичи, это была победа всего клана Кесслер, ступенька вверх на социальной лестнице. И Клэр, как истинный стратег, с гордостью обозревала плоды своих трудов. Финансовое благополучие Дресслеров становилось залогом стабильности и для нас. Это была сладкая победа, вкус которой Клэр смаковала с особенным, почти чувственным удовольствием. В её глазах плясали огоньки самодовольства, а губы сами собой складывались в едва заметную улыбку.
Среди вороха исписанных строк, повествующих о новой жизни Мичи, затерялось и мимолётное упоминание обо мне. Клэр, скользнув по ним равнодушным взглядом, без тени интереса в голосе обронила: «Тебе тоже что-то тут написано». И с презрительной небрежностью, как бы бросая кость под ноги дворовой собаке, швырнула письмо мне под ноги. Я даже не пошевелился, чтобы поднять его. Мой взгляд, острый как лезвие, сам нашёл нужные строчки: короткая, формальная просьба Мичи написать ей. Ни теплоты, ни сестринской заботы. А о Гансе – ни слова. Видимо его имя и сам образ, были тщательно вычеркнуты из новой, блестящей жизни Мичи Дресслер.
Загадка, заключённая в этих немногих строчках, не давала мне покоя. Чего хочет от меня Мичи? Клэр знает все подноготную нашего дома и, безусловно, уже осведомила дочь о последних событиях. Значит, обращаясь ко мне, Мичи преследовала какую-то иную цель. Хотела, о чем-то попросить или что-то сообщить?
Я решил выждать. И дело было даже не в моём отношении к Мичи. Просто не видел смысла отправлять письмо с единственным скупым вопросом. Мне нечего было ей рассказать, поделиться своими мыслями и сомнениями. Я понимал, что она, погруженная в свой новый, блестящий мир, никогда не поймёт моих взглядов, моего стремления к справедливости. В лучшем случае она просто проигнорирует моё письмо. А в худшем… может ненароком подставить, выдав мои секреты тем, кому не следует. Зная легкомысленный нрав сестры, её неумение хранить тайны, я подозревал, что она уже отправила мне ответ, новое письмо, полное сплетен и просьб. И это письмо должно было прибыть со дня на день. Оставалось лишь ждать и готовиться к новому витку этой странной, запутанной игры.