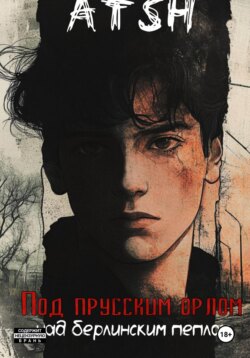Читать книгу Под прусским орлом над берлинским пеплом - - Страница 19
Часть 1
Запись 18
ОглавлениеЧетырнадцать. Мир встретил мой день рождения тишиной. Предрассветные сумерки, густые и синие, словно черничный кисель, заполнили комнату. За окном беззвучно кружилась метель, вздымая снежные вихри, превращая двор в кипящее белое море.
Как и год назад, я всё утро простоял перед зеркалом, всматриваясь в отражение, пытаясь уловить неуловимые перемены, которыми время незаметно отмечало меня. Ещё в июне мой голос начал предательски ломаться, спотыкаясь на гласных, то взмывая в нежданную фальцетную высоту, то проваливаясь в хриплую глубину. Теперь он звучал непривычно, по—взрослому, с новой, едва уловимой вибрацией. Низкий от природы, он все же сохранял юношескую звонкость, обещая к двадцати пяти годам обрести настоящую мужскую глубину и силу.
Подбородок и верхняя губа покрылись мягким, едва заметным пушком – первой, почти невесомой бородкой, словно морозным инеем. Я вытянулся, словно молодой побег после тёплого дождя. Порядочно вытянулся! Сто семьдесят шесть сантиметров – примерно так я оценивал свой новый рост, горделиво выпрямляя спину.
Впрочем, эта внезапная стремительность роста придала моей фигуре некоторую нескладность. Плечи резко расширились, руки стали казаться непропорционально длинными, детская пухлость щёк исчезла, уступив место более чётким линиям, а кисти, ещё недавно маленькие и пухлые, обрели новую изящность и гибкость. Я стоял перед зеркалом, неуклюжий и длинноногий, словно жеребёнок, едва научившийся владеть своим телом, и смущённо улыбался отражению, чувствуя, как внутри меня просыпается что—то новое, незнакомое и волнующее.
Дневник мой стал тоньше. Записи в нём – реже, отборнее. Я больше не выплёскивал на бумагу ежедневный поток мыслей и впечатлений, безжалостно расходуя листы. Теперь я тщательно отбирал только то, что казалось мне по—настоящему важным и интересным, словно коллекционер, сортирующий марки.
Сама мысль о ежедневном заполнении страниц вызывала во мне недоумение, граничащее с отвращением. Кому нужна эта дотошная хроника быта, это бесконечное перечисление мелких событий? Разве что душевнобольным, чтобы их лечащий врач мог отслеживать динамику состояния.
Идея вести дневник ради самоанализа, ради возможности проследить эволюцию собственной личности тоже кажется мне чуждой. Я не вижу в этом ни малейшего смысла. Вряд ли в глубокой старости я буду перечитывать пожелтевшие страницы, испытывая ностальгию или, хуже того, горькое сожаление о том, чего не сделал, чего не достиг.
Моя жизнь – не черновик, который можно переписать, исправляя ошибки и заполняя пробелы. Она – стремительный поток, несущий меня в неизвестность. И я не собираюсь тратить время на бесполезные сожаления. Я приму столько испытаний, сколько мне отмерено судьбой, и пройду свой путь до конца, не оглядываясь назад.
После известия об аресте Юстаса я отправил ему два письма. Представился кузеном, спросил о здоровье, о делах, стараясь писать нейтрально, без лишних эмоций. Я понимал: он узнает мой почерк. Но ответа так и не дождался. Скорее всего, жандармы перехватили мои послания. Или, что более вероятно, Юстас сам решил оборвать все связи с внешним миром, сосредоточившись на общении только с сестрой.
В письмах я использовал зашифрованный язык, доступный только посвящённым. Писал о том, что мы временно залегли на дно, прервали всякую деятельность и ждём условленного сигнала. Майя же отправила ему отдельное, ещё более засекреченное послание. Сообщила, что перешла под командование Маркуса и, вероятно, вместе с Юзефом временно переберётся во Францию, чтобы организовать там новый штаб сопротивления. Дальнейшие планы Майи зависели от обстоятельств. Возможно, она присоединится к Маркусу и Юзефу, а возможно, переждёт какое—то время в Швейцарии, у Тилли. Дело в том, что соседи заметили подозрительную активность вокруг дома Майи и сообщили, что жандармы расспрашивали о ней. Возникли опасения, что среди нас завёлся предатель.
Сейчас Майя скрывается в театре. Агнешка, рискуя собственной безопасностью, укрыла ее в своей гримёрке. К Тилли Майя планирует выехать послезавтра. Окончательное решение о том, присоединяться ли ей к Маркусу и Юзефу во Франции или остаться в Швейцарии, будет принято после их отъезда, когда ситуация станет более ясной.
Сырой, пронизывающий ветер, насыщенный запахом угольной копоти и гниющих овощей, вихрем носился по узким, кривым улочкам. Мощёные булыжником, они были изъедены временем и небрежением, словно старый, забытый богом скелет. Дома, слепленные из грязного кирпича, теснились друг к другу, словно нищие, греющиеся у костра. Окна, затянутые лоскутами тряпья и заклеенные бумагой, смотрели на мир пустыми, лихорадочными глазами. В воздухе висел тяжёлый дух бедности, отчаяния и застарелой боли. Здесь, в этом лабиринте нищеты и горечи, жизнь теплилась еле—еле, словно чахлый огонёк на пронизывающем ветру.
В одном из таких домов, в крошечной каморке, где даже днём царил полумрак, жила вдова фрау Ланге с тремя детьми. Муж ее, рабочий на фабрике, погиб год назад, попав в станок. С тех пор фрау Ланге перебивалась случайными заработками, стирая белье, убирая в богатых дома, но денег катастрофически не хватало.
Ремни наполненного рюкзака неприятно давили на плечи, непривычно тяжёлые. Перед выходом я открыл шкаф Ганса. От туго набитых полок пахнуло кедром и лавандой. Я бегло перебрал вещи, выбирая самое необходимое – тёплый кашемировый свитер, несколько пар тонких, но прочных носков из мериносовой шерсти, мягкие фланелевые брюки. Все это было практически новым, едва ношенным. Затем я зашёл в комнату Мичи. На спинке кресла висело ее любимое платье из тонкой шерсти, рядом – несколько пар шёлковых чулок и кружевной шарф. Я аккуратно сложил все это в рюкзак, поверх вещёй Ганса. На кухне я задержался дольше, перебирая припасы. Взял свежий хлеб из пекарни, куски вяленой говядины и колбасы, несколько спелых груш и яблок, баночку малинового варенья
Я направился к бару Фрица, чтобы узнать новости и услышать разговоры рабочих, узнать поменяли ли они своё настроение, но по пути решил заглянуть к фрау Ланге. О ней я слышал от одной из наших горничных, когда та рассказывала другой о том, что её подруга снова потеряла работу. Она говорила, что это всё из-за сына Роя и собиралась как—то её навестить и помочь, но я решил раньше.
Я приоткрыл хлюпкую дверь и вошёл. Фрау Ланге сидела у постели Роя, гладя его по лбу. Его лицо, бледное и истощённое, казалось полупрозрачным как молодой листок. Он постоянно кашлял, надрываясь и задыхаясь, и фрау Ланге с замиранием сердца слушала этот кашель, зная, что каждый приступ может стать последним.
Я без слов снял рюкзак, стараясь не греметь пряжками. Тяжесть приятно сошла с плеч. Опустил его на пол, бережно, боясь разбудить спящего малыша. Расстегнул тугой узел и достал буханку хлеба, ещё тёплую, с хрустящей корочкой. Она пахла дрожжами и дымом. Рядом положил кусок сыра, завёрнутый в чистую льняную тряпицу, несколько румяных яблок, с гладкой, блестящей кожицей и палку колбасы. Я протянул все это фрау Ланге. Она молча приняла еду, ее натруженные руки слегка дрожали. В ее потускневших от горя глазах блестели слезы, но она не произнесла ни слова, лишь кивнула мне в знак благодарности.
– Позвольте мне посмотреть его, – сказал я тихо, кивком указывая на Роя.
Фрау Ланге бесшумно отодвинулась, освобождая мне место. Я подошёл к кровати и наклонился над мальчиком. Бледный, худенький, он лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Его дыхание было прерывистым, слабым. Лоб горел. Я прикоснулся к его руке – она была сухая и горячая. Мои знания в медицине были более чем скудны, я не знал, что могу сделать, но невыносимо было стоять и наблюдать за его страданиями. Я хотел хоть чем—то помочь, хоть немного облегчить его боль, даже если это было просто моё присутствие рядом.
– Я работать не могу, – всхлипнула фрау Ланге, голос ее дрожал, словно надломленная ветка. – Устроюсь куда-нибудь, как только Рою станет легче. Обещали место прачки… Но сейчас он совсем плох.
Ее слова обрывались, превращаясь в глухие, надрывные рыдания. Она закрыла лицо потрёпанным платком, ее плечи тряслись. Из-под ткани донёсся приглушенный, полный отчаяния шёпот:
– Помрёт, наверное…
От этих слов мороз пробежал по коже. В голосе фрау Ланге не было даже тени надежды, только безысходность и горечь.
– А остальные дети? – спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и уверенно.
Фрау Ланге резко вскинула голову, отчего платок сполз с ее лица. Глаза были красными и опухшими от слез. Она кивнула в угол комнаты, где висела потёртая ситцевая штора, прикрывая нечто вроде алькова. Из-за шторы доносилось тихое, приглушенное поскуливание. Там, в тесной темноте, прятались двойняшки—девочки, чуть старше Роя. Они молчали, затаив дыхание, словно маленькие зверьки, забившиеся в нору от страха. Их беззвучное присутствие делало атмосферу в комнате ещё более тяжёлой и гнетущей.
Внезапно в памяти всплыли приступы Юстаса, его бледное лицо, скрюченное от боли. Я вспомнил, как Майя облегчала его страдания, и интуитивно повторил ее действия. Подвинув шаткий стул ближе к постели, я сел рядом с Роем и осторожно убрал с его лба влажные, пшеничного цвета волосы.
– Не бойся, маленький борец, я не сделаю тебе больно, – прошептал я, стараясь говорить как можно ласковее и успокаивающе.
Затем, повернув голову, бросил короткий взгляд на фрау Ланге:
– Поставьте греться воду. Ему нужно дать тёплое питье. А мне принесите таз с холодной водой и чистые тряпки. Давно началась лихорадка?
– Три дня уж как, – ответила она дрожащим голосом и, словно пробуждаясь от оцепенения, засуетилась, стараясь выполнить мои указания.
Я осторожно раздел Роя, его тело было обжигающе горячим. Фрау Ланге поставила рядом таз с водой и стопку чистых льняных тряпок. Я смочил одну из них в холодной воде, слегка отжал и принялся обтирать мальчика, с особой тщательностью протирая шею, лоб, подмышки, внутренние сгибы локтей и колен. Рой слегка зашевелился, с благодарностью приоткрыл сухие, потрескавшиеся губы и хрипло втянул воздух, словно жаждущий путник в пустыне. На мгновение мне показалось, что в его глазах мелькнул огонёк надежды.
Я не имел ни малейшего понятия, почему, находясь в постоянном контакте с чахоточными больными, я до сих пор не подхватил эту смертельную болезнь. Возможно, меня хранил какой—то невидимый щит, а может, просто повезло. Как бы то ни было, это странное обстоятельство притупляло чувство страха, порождая иллюзию неуязвимости. Где—то в глубине души теплилась непоколебимая уверенность, что меня эта напасть минует.
Достав из рюкзака трубку, я насыпал в неё щепотку специальной травяной смеси, приготовленной по рецепту Юстаса. Он утверждал, что это средство способно облегчить дыхание в кратчайшие сроки и снять приступы кашля. Чиркнув спичкой, я поджёг смесь, от которой пошёл густой, терпкий дым с примесью запаха мяты и шалфея. Затем протянул трубку Рою.
– Вдыхай, – сказал я, – маленькими порциями. И не глубоко.
Рой, дрожащими ручонками, взял трубку. Пальцы его были тонкими и бледными, словно восковыми. Он несколько раз безуспешно пытался поднести ее к губам, но руки не слушались. Тогда я аккуратно придержал трубку у его рта.
– Вдыхай-вдыхай – повторил я, – маленькими глоточками. Вот так.
Рой послушно втянул дым, закашлялся, но потом дыхание его стало чуть ровнее. Пока он боролся с приступом удушья, я осторожно вытащил из-под него смятую, жёсткую подушку. Расправив, я сложил ее вдвое и положил обратно, приподняв верхнюю часть тела Роя так, чтобы он лежал полусидя. Это должно было облегчить давление на лёгкие и хоть немного улучшить дыхание. Я видел, как ему сразу стало легче дышать, хотя лицо его по—прежнему оставалось бледным и измученным.
– Не кормите его, пока температура не спадёт. Лучше давайте побольше питья. Тёплой воды, молока, если есть, – я достал из кармана несколько монет и положил их рядом с продуктами на столе. Затем снова посмотрел на ребёнка, стараясь придать своему голосу ободряющие нотки. – А ты к отцу не собирайся пока, малец. Рано ещё. На тебе мать и две сестры, кто им помогать будет? Ты же у них единственный мужчина в доме.
Рой, прикрыв глаза, сделал ещё один глоток из трубки и тихо выдохнул дым. Затем, глядя на меня снизу вверх, слабо спросил:
– Как тебя зовут?
– Меня зовут Адам, – ответил я.
– Бог послал мне тебя, Адам, – слабо улыбнулся Рой. Под его глазами залегли тёмные, лихорадочные круги.
– Бог послал тебе болезнь и смерть отца… – начал я, но тут же осёкся, понимая, что мои слова звучат слишком жестоко. – … как испытание, – продолжил я более мягко, – великому грешнику. А ты разве грешник?
Я взял его маленькую, худенькую руку в свою. На ладони были видны царапины, едва затянувшиеся тонкой плёнкой новой кожи. Это были следы его собственных ногтей. Видимо, во время приступов боли Рой так сильно сжимал кулаки, что протыкал себе кожу. Теперь, ослабевший от болезни, он уже не мог сжимать руки.
– Больно? – спросил я тихо, проводя большим пальцем по его ладони, словно пытаясь стереть следы страданий. И тут же заметил небольшое пятно крови на его коже. На мгновение мне показалось, что я задел его ранки, но, приглядевшись, понял, что кровь моя. Мой собственный палец, неглубоко порезанный о край жестяной банки, когда я собирал припасы, начал снова кровоточить. Я быстро сжал руку в кулак, пряча порез.
– Не больно, – прошептал Рой, его голос был слабым, но в нем появилась какая—то новая, незнакомая мне интонация. Что—то вроде доверия, что ли.
В этот момент фрау Ланге подошла к кровати с кружкой тёплой воды в руках. Пар поднимался над поверхностью, создавая иллюзию тепла и уюта в этой холодной, мрачной комнате. Я осторожно взял кружку и, поддерживая голову Роя, напоил его маленькими глотками.