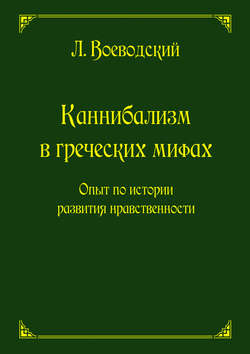Читать книгу Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности - Л. Ф. Воеводский - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности
II. Грубость нравов, отразившаяся в греческих мифах
§ 9. Грубые мифы
ОглавлениеСуществование каннибализма у греков или у народа, от которого они произошли, оказывается, на основании многих соображений, столь несомненным фактом, что и самая цель доказать его, несмотря на общепринятый в классической филологии противоположный взгляд, лишается в моих глазах той привлекательности, и вместе с тем как будто и того значения, которое необходимо для того, чтобы, ограничиваясь только этим одним предметом, оставить все прочие цели и задачи в стороне. Я убедился, что распространённый в настоящее время оптимистический взгляд на древнейшее состояние греческого народа держится только вследствие несознавания резкого противоречия, в котором он находится с некоторыми данными самой же классической филологии; тем более я могу надеяться, что, при неминуемом столкновении с результатами других исторических наук, это, столь тщательно поддерживаемое, поэтическое направление нашей науки уступит место более трезвому взгляду, который прямо и без особых доказательств поведёт и к признанию доказываемого мною предположения о существовании каннибализма у греков. Из предыдущего читатель уже знает, что я намерен воспользоваться исследованием этого варварского явления только как предлогом для достижения гораздо высшей цели, а именно – чтобы выяснить то важное значение, которое следует признавать за мифами, как за источниками для истории развития нравственности. Поэтому считаю уместным, прежде чем перейдём к каннибализму, остановиться ещё на некоторых других следах грубости, сохранившихся в мифах. Материалом, следовательно, будут нам служить преимущественно такие мифы, которые, отличаясь от прочих замечательной грубостью своего содержания, составляют как бы особую категорию, – категорию грубых мифов χατ΄ έξοχήν.
В предыдущей главе, излагая мой взгляд на этическое развитие вообще и указывая на важность мифов для исследования самых начал этого развития, я должен был высказаться и насчёт происхождения мифов. Так как относительно последнего вопроса частности моего взгляда выяснятся, насколько это будет необходимо, в дальнейшем ходе нашего исследования, то я довольствовался указанием только главнейших его черт, не представляющих существенного различия с теорией Отфрида Мюллера, которую поэтому я и старался изложить хоть вкратце.[89] Считая «логическую» умственную работу источником мифов, и определяя их, таким образом, как «научные» объяснения известных данных, я имел при этом главным образом в виду устранить аллегорическую, символическую и другие теории, которые, как мы видели, лишают мифы их этического значения. Мой взгляд на происхождение мифов я старался объяснить примером из Одиссеи, прилагая его ко всем частностям этого примера. Но подобная проверка может считаться (удачным или неудачным) доказательством только для тех учёных, которые знакомы со всеми другими теориями о том же предмете, и которые притом в состоянии оценить, насколько приведённый нами пример может служить представителем всех мифов, находящихся в мнимом или действительном противоречии с нашим взглядом. Я же сам должен пока смотреть на него, как на гипотезу, нуждающуюся ещё в подтверждении. Посмотрим теперь, насколько тот материал, которым мы будем пользоваться (грубые мифы), может считаться достаточным для такого подтверждения.
Всякое строгое доказательство известного суждения должно состоять собственно из двух частей: из проверки суждения на всех фактах, для объяснения которых оно придумано, и из опровержения всех противоречащих суждений, какие только мыслимы о данном предмете. В математике подобного рода суждения называются обыкновенно теоремами, в прочих же науках – теориями. Строгая научность доказательства в математических науках вытекает из того обстоятельства, что вследствие известных условий возможно просмотреть мысленно все данные, на которых теорема должна быть проверена, и что затем представляется только очень ограниченное количество теорем, которые следует опровергнуть (так например, теореме, что прямой угол больше острого, мыслимо противопоставить только две следующие: прямой равен острому, и – прямой меньше острого). Иное дело – в других науках, особенно же в исторических, куда следует отнести и науку о мифах. Тут, вследствие сложности, разнообразия и множества данных, с которыми приходится иметь дело, теория может опираться только на некоторые данные, представляющиеся, на основании каких бы то ни было соображений, более важными. Проверка же всех данных немыслима. Так же и с другой стороны, вследствие необходимости пренебрегать одними фактами и выдвигать вперёд другие, представляется обыкновенно возможность придумать бесчисленное множество самых различных теорий, объясняющих, по-видимому, один и тот же предмет, в то время как в сущности они объясняют или берутся объяснить иногда совсем различное. Поэтому и опровергать все теории, какие только мыслимы, нет никакой возможности. Зато и довольствуются обыкновенно проверкой новой теории по важнейшим лишь фактам и указанием несостоятельности только тех теорий, на место которых желают возвести новую. Таким образом и мы, желая доказать (относительную) верность нашего взгляда на мифы, можем довольствоваться проверкой его на ограниченном количестве мифов и опровержением только существующих противоположных нам теорий.
Для опровержения теории достаточно указания одного факта, противоречащего ей. Называя мифы научными объяснениями явлений и находясь, таким образом, в разногласии с теми теориями, которые смотрят на мифы как на произведение фантазии, я усматриваю главное доказательство несостоятельности этих теорий в том, что они не объясняют существенной стороны рассматриваемого ими предмета, а именно, что они не объясняют, каким образом мифы, будучи только произведениями воображения, могли сделаться предметом верования. Если, например, олицетворение месяца было первоначально только поэтической картиной, то чем объяснить заботливость некоторых дикарей, чтобы их дети не указывали на него пальцем, так как, по их мнению, месяц может его откусить?[90] Если народные понятия о домовых и вообще о различных привидениях, в мифическом значении которых нет сомнения, были первоначально не что иное как только символы или аллегории, то чем объяснить, например, убеждение, что посыпав пол пеплом, можно увидеть на нём следы этих ночных гостей?[91] Чем объяснить веру тирольцев в существование «диких людей», столь глубоко укоренившуюся, что она даже заставляет некоторых строить дома с маленькими окошечками единственно из опасения, чтобы эти дикие люди не подменили детей? Но положим даже, что нельзя требовать от теории объяснения всех фактов. Тогда следует, однако же, заметить, что указываемая нами связь веры с мифами не есть какое-нибудь уединённое, а общее всем мифам явление. К тому же, если и можно оставлять не объяснёнными некоторые факты, индифферентные для теории, то ведь в нашем случае очевидно, что указанное явление, не будучи объяснённым в пользу рассматриваемых теорий, находится в самом резком противоречии с ними.
Довольствуясь этими указаниями для опровержения всех теорий, смотрящих на мифы как на произведения фантазии, мы должны, однако, остановиться ещё на символической теории, так как она не вполне может быть отнесена к этой категории. Если понимать под символом сознательно придуманную форму для иносказательного выражения известной мысли, то окажется, что и символическая теория настоящим источником мифов считает деятельность рассудка. В таком случае мыслимо объяснить, – хотя и не без натяжки, – и «позднейшую» будто бы веру в истинность содержания мифов. Чтобы, однако, вполне оценить значение этой теории, необходимо только взглянуть на главные мотивы, которыми она была вызвана, и которые ничем не отличаются от тех соображений, которыми руководится и поэтическое толкование. В мифах молния представляется то змеёй, то птицей; облака – то горами, то коровами; дождь – молоком этих коров, и т. п. Казалось немыслимым предполагать такую неразвитость умственных способностей, которая заставляла бы видеть подобные вещи в действительности. Точно так же казалось немыслимо, чтобы и в этическом отношении грубость мифов соответствовала когда-либо нравственным понятиям. Вот почему эта теория и не довольствуется символическим толкованием отдельных, позднейших форм мифов, с чем и мы бы, во многих случаях, охотно согласились (ведь мифы превращались же впоследствии в басни и даже просто в поэтические картины). Она отстаивает, напротив, символическое происхождение мифов, против чего мы именно и восстаём. В этом отношении наш труд, рассматривающий преимущественно грубые и, следовательно, более первобытные формы мифов, представит нам много случаев, где мы могли бы до очевидности выказать несостоятельность такого толкования. Считая, однако, лишним затруднять читателя подобными указаниями при каждом грубом мифе, я ограничусь только следующим примером, который хотя и не заимствован мною из области греческой мифологии, но зато чрезвычайно удачно характеризует то направление, с которым мне приходится бороться.
Существует русская народная песня, в которой, несмотря на отсутствие, по-видимому, всякого символизма, говорится об употреблении в пищу человеческого мяса и человеческой крови, об употреблении черепа вместо чаши и т. п. Обо всем этом в ней говорится с удивительным равнодушием, то есть совершено так, как это бывает у народов, у которых каннибализм составляет обыкновенное явление. Вдобавок, предметом каннибализма является не чужой, не враг, а «милой», съедаемый, по-видимому, своей собственной женой, что напоминает обычай некоторых народов пожирать родственников из нежности, то есть из опасения, чтобы предмет их любви не перешёл в состояние гниения и не обратился в пищу для червей. Ввиду всего этого является вопрос: если каннибализм, о котором говорят точно так же и мифы, не существовал никогда в действительности, то откуда же черты его попали в эту песню? Вот она:
Я из рук, из ног коровать смощу,
Из буйной головы ендову скую,
Из глаз его я чару солью,
Из мяса его пирогов напеку,[92]
А из сала его я свечей налью.
Созову на беседу подружек своих,
Я подружек своих и сестрицу его,
Загадаю загадку неотгадливую:
Ой, и что таково:
На милом я сижу,
На милова гляжу,
Я милым подношу,
Милым подчиваю.
А и мил предо мной,
Что свечою горит?
Никто той загадки не отгадывает;
Отгадала загадку подружка одна,
Подружка одна, то сестрица его.
– «А я тебе, братец, говаривала:
Не ходи, братец, поздным-поздно,
Поздным-поздно, поздно вечера».[93]
Что же делают поклонники символического толкования? Если признать, что в этой песне сохранились бытовые стороны, и что каннибализм, следовательно, существовал в действительности, то символическое толкование каннибализма в мифах окажется – по крайней мере в том виде, как оно обыкновенно понимается, – лишним. Поэтому не остаётся ничего другого, как признать самую песню тоже мифом, то есть символом. Так и поступают. Укажу, для примера, на следующее объяснение Хомякова, причём считаю не лишним привести его собственные слова:
«Странная и уродливая песня во всех отношениях! Отрицать её подлинности нельзя, хотя бы даже она была только местною; но такая же точно песня записана и в других местностях, следовательно, она довольно общая в Великорусской земле. Предполагать позднейшее изобретение нет причин ни по тону, ни по содержанию: окончание загадкою как будто указывает на древность. Что же это такое? Гнусное выражение злой страсти, доведённой до исступления? Тон вовсе не носит на себе отпечаток страсти и его холодность делает песнь ещё отвратительнее. Сравним с нею разбойничью песню, кончающуюся стихами:
На ноже сердце встрепенулося,
Красна девица усмехнулася, —
и разница станет очень явною. Как песня, эта песня не имеет ни смысла, ни объяснения; она невозможна психически и невозможна даже в художественном отношении (?). Как же объяснить её существование? Просто тем, что она не песня в смысле бытовом. Северная мифология в своей странной космогонии строила мир из разрушенного образа человеческого, из исполина Имера, растерзанного детьми Бора; восточные мифологии – из мужского или женского исполинского образа, часто смотря по тому, кто был убийца-строитель: божество мужское или женское. То же самое отчасти можно угадать в мифологии египетской и индийской; но, оставив в стороне гадательное, мы знаем, что на севере и на востоке космогонический рассказ был именно таков. Кости делались горами, тело землёй и всеми её произведениями и всем началом питания, кровь морями, глаза – либо морскими водоёмами, либо чашами светоносными, месяцем и солнцем. Такой процесс космогонический был, вероятно, и у нас. Мифологические рассказы при падении язычества теряли свой смысл (следует подразумевать: символический) и переходили либо в богатырскую сказку, либо в бытовые песни, либо в простые отрывочные выражения, которые сами по себе не представляют никакого смысла. Таково, например, описание теремов, где отражается вся красота небесная, или описание красавицы, у которой во лбу солнце, а в косе месяц и т. д. Песня, о которой мы теперь говорим, есть, по-видимому, не что иное как изломанная и изуродованная космогоническая повесть, в которой богиня сидит на разбросанных членах убитого ею (также божественного) человекообразного принципа. Так, например, Рутрен и Сати поочерёдно друг друга убивают в разных сказаниях. Этим объясняется и широкое распространение самой песни, и её нескладица (?), и это соединение тона глупо-спокойного с предметом, по-видимому, ужасным и отвратительным».[94]
Мы не станем говорить об очевидности натяжки этого «вероятнейшего объяснения явления», которому, по словам автора, «другого (объяснения) и придумать нельзя». Допустим, напротив, что эта песня действительно представляет остатки какого-нибудь мифа. Тогда спрашивается: если вся суть песни состояла в символизме, то каким образом народ, способный не только понимать, но даже сам придумывать символы, забыл это самое существенное в песне и сохранил не только не существенное, но даже и просто нелепое? Мы знаем, правда, что, по-видимому, и очень нелепые черты сказаний удерживаются в народе иногда с чрезвычайной стойкостью. Но ведь очевидно, что для объяснения такой стойкости следует предположить, что эти черты имели некогда важное значение, сделавшее их впоследствии чем-то неприкосновенным, не подлежащим изменению. А чтобы получить подобное значение, они первоначально уже никак не могли считаться ни ничтожными, ни нелепыми. Но если бы мы даже и допустили возможность, с одной стороны, сохранения в сказании черт неважных, случайных, не имеющих никакого основания в обычае, а с другой – утрату и забвение всего в нём существенного, то всё-таки остаётся ещё непонятным следующее: вследствие каких же причин рассматриваемая песня приняла форму первого лица, вместо того, чтобы говорить в третьем лице о каком-то враждебном существе-чудовище, пожирающем человеческое мясо? Известно ведь стремление народа осмысливать и прилаживать по-своему к действительности всё ему непонятное. Не имея под рукой достаточного количества вариантов приведённой песни, мы, к сожалению, не можем вдаваться в подробное рассмотрение всех отдельных черт её, причём ещё лучше можно было бы выказать несостоятельность всякого толкования, отрицающего её бытовое значение. Будем поэтому довольствоваться теми возражениями, которые уже нами высказаны, и которых, полагаю, и без того достаточно для нашей цели.[95]
Указав таким образом в какой мере чужие теории кажутся мне несостоятельными в приложении именно к грубым мифам, я должен высказаться теперь и насчёт другого вопроса: какое значение следует приписать тем же грубым мифам при проверке моего собственного взгляда, и в чем будет состоять эта проверка? Очевидно, что мой взгляд на первоначальную «научность» мифов не может быть прямо проверен на всех мифах, с которыми мы будем иметь дело, так как только в чрезвычайно редких случаях мы можем сказать, что вполне понимаем смысл мифа и знаем его первоначальную форму. В большей же части случаев нам приходится довольствоваться только отдельными чертами мифа. Но остаётся ещё возможность хоть косвенной проверки, которая не лишена значения на следующем основании. Я буду приводить мифы не произвольно, а лишь такие, которые всего более кажутся противоречащими моей теории, противоречащими именно потому, что приложение её к этим мифам поведёт нас к выводам, которые вследствие своей невероятности представляются, на первый взгляд, лучшим опровержением нашей теории. Если мы не сумеем отстоять эти выводы, то почти весь настоящий труд будет лишь deductio ad absurdum нашего собственного взгляда на мифы. Затем могу указать ещё и на другого рода критерий. Выше я приводил имена Штейнталя, Куна, Гана и др., которые точно так же, как и я, должны были проверять свои взгляды некоторыми данными. Но сколь ни различны в действительности наши взгляды относительно некоторых частностей, всё-таки очевидно для всякого, кто познакомился с направлением этих учёных, что многое, приводимое ими в свою пользу, служит подтверждением и моего взгляда.
Наконец, относительно пользования грубыми мифами я считаю необходимым заметить ещё следующее. Обращая внимание на грубую форму мифов, мы не будем вникать в происхождение и внутреннее значение каждого отдельного мифа, с которым будем иметь дело. Стараясь по возможности давать себе отчёт относительно этих вопросов при рассматривании каждого мифа, я убедился, что указывание на результаты чисто мифологических исследований, обременяя только ход нашего труда, всё-таки не представляло бы новых исходных точек для суждения о нравственном значении этих мифов. Такие исследования могут быть для нас интересны только в одном отношении, именно насколько ими выясняется более глубокая древность грубой формы известного мифа сравнительно с более смягчёнными. Нетрудно убедиться, что мифическая форма, употреблённая раз для выражения одной мысли, могла употребляться, с некоторыми изменениями, и для выражения многих других. Так, например, под образом борьбы двух героев могли пониматься различные явления природы.[96] Интересуясь только нравственным значением подобных образов, мы не будем доискиваться, какие именно явления следует подразумевать во всех тех частных случаях, к которым они были прилагаемы. Положим, например, что мы имеем пред собою несколько вариантов следующего содержания: отец пожирает сына; отец приносит сына в жертву (на съедение богам); отец убивает сына у жертвенника; отец убивает сына на охоте (не нарочно) и т. д. Для нас будет, конечно, важно узнать, которая из этих форм древнее. Но если для этой цели и придётся нам сличать подобные варианты, то всё-таки окажется, что нет необходимости обращать при этом внимание на все частные значения мифов, с которыми, в таком случае, мы будем иметь дело.[97]
Чтобы пояснить примером, как мало результаты чисто мифологических исследований могут повлиять на выводы о нравственности общества, сделанные на основании формы сказаний, мы возьмём следующий миф. Аполлодор рассказывает: «Марсий, поднявший флейту, которую Афина бросила потому, что игра на ней искажает лицо, вступил в музыкальное состязание с Аполлоном. Они условились, что тот, кто окажется победителем, мог делать с противником, что захочет. Во время состязания Аполлон перевернул свою кифару и предложил Марсию сделать то же самое (со своим инструментом). Но так как последний не мог (конечно) этого исполнить, то Аполлон, признанный (вследствие сего) победителем, повесил его на ближайшей сосне и умертвил, содрав с него кожу».[98] Этот миф известен уже и Геродоту, который со слов фригийцев рассказывает, что во фригийском городе Келэнах висит кожа Марсия, содранная с него и повешенная там самим Аполлоном.[99] У Гигина грубость этого мифа является смягчённой в том отношении, что не сам Аполлон сдирает кожу, а поручает это варварское дело скифскому рабу.[100] Сказание о Марсие было очень распространено; сохранились многие рельефы, геммы, вазы и статуи, изображающие музыкальное состязание Марсия и приготовления к его наказанию; в Риме и в его колониях на площадях стояли статуи Марсия, как символа строгости правосудия.[101] Не вникая даже в значение сказания, мы из всего этого можем заключить, что поступок, подобный тому, который приписывается Аполлону, когда-нибудь считался, по всему вероятию, вполне естественным. Посмотрим теперь, как объясняет происхождение этого мифа Отфрид Мюллер. Вот что он говорит: «При празднес-твах в честь Аполлона была употребительна игра на кифаре, вследствие чего благочестивый народ должен был считать этого бога изобретателем кифары. Во Фригии же народной музыкой была игра на флейте, которую приводили в подобную связь с тамошним народным демоном Марсием. Древние эллины чувствовали противоположность характера этих двух инструментов: Аполлон должен был ненавидеть то глухой, то свистящий звук флейты, а вместе с тем – и самого Марсия. Но этим не довольствовались: чтобы грек, играющий на кифаре, мог считать изобретение своего бога превосходящим все другие, необходимо было, чтобы Аполлон победил Марсия. Но за что же было сдирать с несчастного фригийца кожу? Дело очень просто: в цитадели города Келэн во Фригии, в гроте, из которого вытекает река Марсий или Катарракт, висел кожаный мех, называвшийся у фригийцев мехом Марсия вследствие того, что Марсий, подобно греческому Силену, считался демоном изобилия (der saftstrotzenden Natur). Всякий грек, или фригиец, получивший греческое образование, увидевши этот мех, сейчас же мог уяснить себе род смерти Марсия: ведь вот висела ещё его кожа, походящая на мех; Аполлон заставил содрать с него кожу. Во всём этом нет произвольного толкования; как только кто-нибудь высказал впервые эту мысль, то он мог смело надеяться, что все прочие, воспитанные на тех же самых представлениях, ни на минуту не усомнятся в верности высказанного мнения».[102] Очевидно, что подобное толкование не может лишить значения наше предположение о важности безнравственной формы, которую получил миф. Неужели было бы мыслимо подобное объяснение столь простых данных, если бы приписываемый Аполлону поступок считался безнравственным, или если бы даже никогда ничего подобного не случалось в действительности?
Что подобная жестокость наказаний действительно существовала в первобытном диком состоянии человечества, в этом, собственно, не может быть ни малейшего сомнения. Даже до сих пор дикари северной Америки, не довольствуясь одним скальпированием, то есть сдиранием кожи с головы живого человека, сдирают её иногда и с целого тела, как это они не раз делали с христианскими миссионерами. О существовании подобного обычая в древности у скифов мы имеем подробное описание Геродота, которое приведу в целости: «Относительно войны, – говорит он, – у них принято следующее. Скиф пьёт кровь первого убитого им в сражении человека. Головы же всех им убитых он несёт к царю, ибо, принёсши голову, он получает право на участие в добыче, в противном же случае лишается этого права. Кожу с головы (скиф) сдирает следующим образом: сделав надрез вокруг ушей, он берёт голову в руки и вытряхивает её (из кожи); затем соскабливает мясо при помощи бычачьего ребра и дубит (кожу) руками. Смягчивши её таким образом, он получает из неё нечто вроде полотенца.[103] Он прикрепляет её к уздечке лошади, на которой едет верхом, и гордится (подобным украшением). Ибо у кого больше таких кожаных полотенец, тот считается знатнее. Многие сшивают содранные кожи и делают из них платье вроде тулупов. Многие же сдирают с правой руки мёртвого врага кожу вместе с ногтями и надевают её на колчаны. Человеческая кожа толста и блестит вследствие своей белизны, пожалуй, лучше всякой другой. Многие, наконец, сдирают кожу и с целого тела, распинают её на шестах и разъезжают с нею верхом».[104] Подобным образом в мифе Афина сдирает кожу с Палланта и прикрывается ею во время сражения.[105] По иному сказанию она сдирает кожу даже со своего собственного отца (Палланта) за то, что тот желал её изнасиловать.[106]
Но если и не довольствоваться такими аналогиями для вывода о фактическом существовании подобного обычая у греков, то всё-таки мы имеем ещё одно несомненное доказательство в самом языке. Следом этого варварского способа наказания сохранилось у греков переносное употребление слова δέρειν, драть, в смысле: наказывать, мучить. Русскому же обороту «драть шкуру с живого человека», немецкому «bei lebendigem Leibe schinden» соответствует и в греческом «άσχόν δέρειν τινά».[107] Такие обороты могли появиться только на основании соответствовавшего им обычая. Чтобы убедиться, наконец, какой жестокостью вообще отличалось, по всему вероятию, древнейшее общество, следует вспомнить только жестокость наказаний у предков теперешних цивилизованных народов, например, четвертование, сажание на кол, вынимание внутренностей (Ausdarmen) и т. п.[108] Тогда окажется, что все примеры наказаний, встречаемые нами в мифах, не представляют собой ничего невероятного.[109]
89
Чтобы указать на одно важное отличие моего взгляда на мифы от взгляда Отфрида Мюллера, я замечу здесь, что не разделяю его мнения, будто мифы суть исключительно произведение какого-то особого периода (mythenbildende Zeit). Мюллер, признавая деятельность рассудка источником мифов, должен, по-моему, признавать и возможность появления новых мифов во все времена. Его мнение повторяется, впрочем, с некоторыми изменениями до последнего времени. Даже Ган впадает в ту же ошибку. Hahn, Sagwissenschaftliche Studien, 1‑й выпуск (1871 г.), стр. 67: Da aber schon О. Müller das s. g. mythische Zeitalter der Hellenen auch als das mythenbildende ansieht (Proleg. S. 164 f.), dessen mythenbildende Thätigkeit in unserm heutigen Denken keine [?] Analogie hat (S. 112; auch Max Müller in seinen Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache, Serie II, S. 335, 337 f., stellt in demselben Sinne ein mythisches Zeitalter auf), so wollen wir nach seinem Vorgang das Zeitalter, in welchem der Mensch Sprache und Sage schuf und wesentlich [?] anders dachte, als in dem geschichtlichen, das mythische oder das Sprach– und Sagalter nennen; der Unterschied zwichen unserer und Müller’s mythischer Zeit betrifft nur ihr Alter, denn während er dieselbe unter den Hellenen und auf hellenischem Boden sucht, verlegen wir sie au den Anfang der Menschheit. Ср. там же, стр. 85: Wir beschränken die Eigenart (?) unserer Ansicht von der Sage jedoch nur auf ihren Ursprung, für den wir dadurch einen festeren Roden zu gewinnen trachten, dass wir ihn, auf das innigste mit der Sprachentstehung verschwistert, an den Anfang der Menschheit zurückrücken und ihn mit dem Ausbau der Sprache abschlieesen (sic), so dass von da an hre Weiterentwickelung, gleich der Sprache, auf die Umbildung des vorhandenen und die Aufnahme fremden Stoffes beschränkt ist. Нo в чем же ином может состоять развитие вообще, если не в переработке старого и в усвоении нового материала? Ведь приведёнными словами Ган собственно только подтверждает возможность беспрерывного появления мифов. Но он, по-видимому, понимает под мифами только те грубые воззрения, которые лишены «всякой аналогии с нашим мышлением», то есть те, которые для более развитого мышления кажутся чересчур нелепыми. Произвольность столь узкого понимания мифов очевидна.
90
Bastian в Zeitschr. f. Ethnol., IV (1872), стр. 362, прим. Пример подобной ограниченности умственных способностей представляют басуты (в юго-восточной Африке), которые убеждены, что, гуляя у берега реки, следует остерегаться, чтобы тень от собственного тела не падала на воду, ибо тогда её может поймать крокодил и вместе с ней утащить с собой и человека. Tylor, Primit. Culture, I. стр 388.
91
Tylor, там же, II, стр. 179 и след. Ср. Simrock, Deutsche Mythologie, 3‑е изд. (1869 г.), стр. 463.
92
В одном из множества вариантов этой песни говорится:
А из крови его пьяно пиво сварю.
93
Нельзя определить род приключения, на которое указывают, по-видимому, последние слова песни. Очевидно, однако, что никак нельзя полагать, чтобы убийцей была собственная жена, как это делают некоторые толкователи песни.
94
Сочинения Хомякова, изд. Аксакова, I (1861), стр. 492 и сл.
95
Непонятно, почему учёные, сознающие несостоятельность символической и поэтической теории, пользуются, однако, беспрерывно терминами этих теорий, не имеющими смысла в научном приложении. Hahn, Sagwiss. Stud. стр. 24: Der Urmensch war ein gezwungener (!) und unbewusster Dichter und nur insofern er dies war, können wir von dem symbolischen Wesen seiner Erzeugnisse sprechen… Das symbolische Wesen im Mythus liegt daher für uns in dem Unbewusst sein seiner Bildner, dass die Form, in welcher sie ihre Anschauungen verkörperten, keine diese unmittelbar bezeichnende, sondern eine auf ähnliche Anschauungen übertragene sei, und dieses Unbewusstsein erklärt uns einerseits die Möglichkeit der allmäligen Verwandlungen der mythischen Naturansichten in Geschichte, und giebt andererseits ein scharfes Trennungsmittel der Ursagen von den ihnen beigemischten späteren allegorisirenden Sagen an die Hand, bei welchen die Uebertragung auf ähnlich Erkanntes mit Bewusstsein erfolgte. Если понимать под символом все то, переносный смысл чего не сознается человеком, то придётся все наши понятия и определения назвать символами, так как ими никогда не уясняется самая суть предмета в строгом смысле (das Ding an sich). По-моему, символом можно назвать только то, что употребляется сознательно как нечто переносное. Различие между символом и аллегорией будет состоять лишь в их происхождении. Символ есть такое выражение предмета или понятия, которое считалось когда-то точным определением, и получило переносное значение только со временем (при появлении более верного определения; так, например, по-моему, слово «корова» когда-то означало одинаково и корову, и облако; но когда стали сознавать различие между этими предметами, тогда слово «корова» сделалось символом понятия «облако»). Аллегория же с самого начала имеет целью обойти точное определение, заменяя его нарочно иносказательным.
96
Таким образом многие мифы являются относительно формы вариантами одного и того же сказания, в то время как по содержанию каждый из них мог иметь своё особое, определённое значение. Поэтому не знаю, насколько прав Грот, когда, например, в отношениях Урана и Геи он видит только подражание чуть ли не всем частностям сказания о Кроносе и Pee: Grote, History of Greece, I (1862), стр. 14: In fact the relations of Uranos and Gaea are in allmost all their particulars a more copy and duplication of those between Kronos and Rhea, differing only in the mode whereby the final catastrophe is brought about.
97
Дальнейшие подробности нашего приёма выяснятся ниже, особенно в главе о каннибализме в греческих мифах.
98
Apollod., I, 4, 2. В сборнике гэльских сказок, изданном Кэмпбелом (Campbell, Popular Tales of the West Highlands, 1860), говорится в одной сказке (45) о состязании, в котором тот, кто больше съест, может вырезать из спины побеждённого семь ремней. В другом месте победитель вырезает один ремень с головы до ног. Кёлер (Reinhold Köhler) в своей рецензии этого сборника, в Or. u. Occ. II, стр. 682 слл., приводит несколько подобных примеров и из сказаний других народов.
99
Herodot, VII, 26. Элиан даже рассказывает, что эта кожа Марсия двигалась при звуках фригийской флейты, Ael. Var. hist. XIII, 21.
100
Hyg. fab. 165: …Apollo victum Marsyam ad arborem religatum Scythae tradidit, qui cutem ei membratim separavit (conj. Schefferi pro: qui eum membratim separavit). Скифы, как увидим, отличались этим искусством. Замечательно видимое удовольствие, с которым рисует Овидий эту варварскую казнь: Оv. Met. VI, 387.
Clamanti cutis est summos direpta per artus:
Nec quicquam nisi vulnus erat, cruor undique manat,
Detectique patent nervi, trepidaeque sine ulla
Pelle micant venae, salientia viscera possis
Et perlucentes numerare in pectore fibras.
Сравни Оv. Fast. VI, 707 сл. О смерти Лина вследствие подобного состязания с Аполлоном см. Paus. IX, 29, 6. Наказание фракийского певца Фамирида музами вследствие подобного состязания в музыке, причём его изувечивают, описано Iliad. II, 597. (Я не вижу причины, почему под словами «они его изувечили», понимают ослепление. Полагаю, что гораздо естественнее подразумевать здесь отрубание рук, что делало певца неспособным к игре на кифаре. Ослепление тут лишено всякого смысла). Грот считает этот рассказ прототипом мифа о Марсие. Hist. of Greece, II, стр. 402: And we may remark that the analogy between Thracians and Phrygians seems partly to hold in respect both to music and to religion; since the old mythe in the Iliad, wherein the Thracian bard Thamyris, rashly contending in song with the Muses, is conquered, blinded (?) and stripped of his art, seems to be the prototype of the very similar story respecting the contention of Apollo with the Phrygian Marsyas. С этим мнением нельзя безусловно согласиться. См. выше.
101
Jacobi, Handwörterbuch der griech. u. röm. Mythol. (1830), стр. 590. Cp. K. O. Müller, Dorier, I (1844), стр. 347, прим. 6.
102
K. O. Müller, Proleg, стр. 112; сравн. его же Dorier, I (2‑е изд. Шнейдевина, 1844 года), стр. 346 слл.
103
Надрез вокруг ушей должен был, следовательно, пересекать разрез шеи, чтобы всю головную кожу можно было растянуть вроде полотенца.
104
Herodot. IV, 64. О питье крови и сдирании кожи с врагов у евреев, см. Ghillanу, Menschenopfer der alten Hebräer (1842), стр. 653.
105
Apollod. I, 6, 2, 3. Сравн. остроумное замечание Гейне к этому месту (Heyne, Observ. стр. 32): Quod (Minerva) Pallantis polle рго thorace vel clipco utitur, videtur antiquior esse mythus; obtinuit mox aegis.
106
Cic. N. D. III, 23: (Minerva) Pallantis (filia), quae patrem dicitur interemisse, virginitatem suam violare conantem; сравн. Clem. Alex. Protr. II, 28 (cd. Klotz): Tsetz, Lyc. 355 и мн. др.; см. К. О. Müller, Kleine deutsche Schriften, II (1848), стр. 135 и 208.
107
В подобном смысле, как у нас говорится – изорвать в клочья, избить в пух и прах, в немецком «Jemand zum Krüppel schlagen» и т. п. Следовательно, в древнейшее время понятие «человек», должно быть, теснее было связано с его кожей, чем с остальным его телом. Для сближения с такого рода странным воззрением приведу слова, с которыми у Овидия Марсий обращается к Аполлону, когда тот сдирал с него кожу, Met. VI, 385: Quid me mihi detrahis? «Зачем ты сдираешь меня с меня самого?»
108
Наглядной иллюстрацией той жестокости, которая сохранилась даже до сих пор, преимущественно в обращении детей с животными, служит известная картина Гогарта: The four Stages of Cruelty, № 1 (у Роттенкампфа, 2‑е изд. 1857 года, стр. 531).
109
См. например, Grimm, Deutsche Rechsalterthümer (1828), стр. 682–701, где некоторые наказания, изображенные в греческих мифах, подтверждаются примерами подобных наказаний у римлян и древних германцев. Кстати укажу здесь на странное сказание, которое находится в сборнике Великорусских сказок, изданном Худяковым, стр. 165–168, о человеке, у которого вытягивают жилы. См. Or. u. Occ. III, стр. 93.