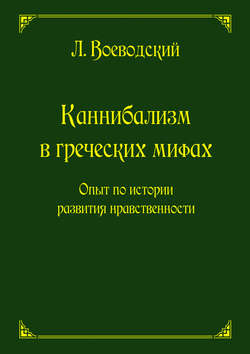Читать книгу Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности - Л. Ф. Воеводский - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности
II. Грубость нравов, отразившаяся в греческих мифах
§ 14. Детоубийство, бросание детей, плодоизгнание
ОглавлениеЕсли мифологические указания в совокупности с историческими данными ведут нас к заключению, что обман, воровство и даже убийство не всегда были делами преступными, а, напротив, составляли некогда живые звенья в развитии нравственности, то после всего вышесказанного, такого рода вывод сам собой не представляет ещё ничего особенно странного. Действительно, раз согласившись смотреть на развитие нравственности подобным образом, как мы смотрим на развитие других проявлений человеческого духа, мы не найдём ничего неестественного в том, что первые фазисы этого развития кажутся столь грубыми в сравнении с данными позднейшего развития, что могут даже быть противопоставлены им как нечто противоположное, враждебное. Точно такое же явление мы замечаем, например, в истории искусства. Стоит взглянуть только на древнейшие «художественные» произведения, например, на грубые изображения идолов, чтобы убедиться, что вряд ли мыслимо отыскать во всей природе что-либо столь отвратительное и так сильно противоречащее, по-видимому, всем требованиям эстетического вкуса, как эти предметы; а между тем мы должны в них видеть первые проявления именно эстетического вкуса.
Но если мы и согласимся признать нравственное значение за указанными «преступлениями», то всё-таки, в сущности, мы это делаем только потому, что все они и поныне могут быть нами представлены в более благовидной форме, в сопровождении храбрости, твёрдости воли и других качеств, иног-да заслуживающих даже удивления. Но какие обстоятельства или какие соображения смягчат неблаговидность того преступления, на котором мы должны теперь остановиться, именно детоубийства? Что может придать вид нравственного подвига тому варварству, с которым родители лишают жизни существо невинное, не могущее противопоставить убийце ни малейшего сопротивления? Правда, что обстоятельства, извиняющие или по крайней мере смягчающие преступность его, мы можем придумать; таковы крайняя нужда, голод. Но этого недостаточно для того, чтобы признать детоубийство звеном в развитии нравственности; необходимо выказать в нём ещё такие черты или придумать такие обстоятельства, при которых оно было бы мыслимо как нечто похвальное. Можно, пожалуй, представить себе такие случаи, в которых родители решаются на убийство ребёнка в благородном намерении избавить его от позорной жизни, бедности и т. п. Но очевидно, что столь утончённые соображения не приложимы к первобытной дикой среде, в которую мы должны отнести начало рассматриваемого явления.
Не следует ли после этого признать, что дошедши до детоубийства, мы дошли до предела нравственности; что если детоубийство и считалось когда-либо позволительным, то уж никак не могло считаться долгом, и было, следовательно, лишь индифферентно в нравственном отношении; словом, что детоубийство представляет собою нечто вроде точки замерзания на шкале нравственного развития? Но этому предположению противоречит, однако, тот факт, что у многих народов до сих пор детоубийство, то есть убивание не только уродов или слабых, но и здоровых, лишних детей принято не как исключение, а как общее правило. Неужели можно полагать, что эти народы остались в рассматриваемом отношении действительно на первобытной ступени развития, на точке замерзания?[240]
К счастью, однако, между указаниями старины дошли до нас и некоторые такие, руководясь которыми, мы действительно можем уразуметь и детоубийство, как шаг вперёд на пути прогресса. Так, например, в некоторых городах Силезии и Саксонии до сих пор висят у городских ворот палицы с надписью:
Кто детям своим даёт хлеб
И при этом сам терпит нужду,
Тот да будет убит сею палицей.[241]
Каково бы ни было более тесное значение этих слов, во всяком случае они не лишены нравственного оттенка и напоминают нам, что дорожить чрезмерно жизнью ребёнка могло когда-то считаться пороком.[242] Если мы вспомним при этом, как сильно развита у большей части известных нам животных любовь к детёнышам, принимающая иногда даже отвратительные размеры, например, у обезьян, которые нянчатся даже с мёртвым ребёнком по нескольку дней после его смерти, то всякий шаг, сделанный человечеством в противоположную сторону, получит для нас новое значение. Действительно, любовь матери к своему ребёнку, особенно в первое время его существования, вытекает даже просто из физиологических условий и поэтому уже никак не может считаться исключительным плодом гуманного развития, а напротив, одним из самых элементарных, всегда существовавших инстинктов, без которого, подобно как без полового влечения, немыслимо было бы ни человечество, ни вообще мир животных. Смотря с этой точки зрения, нам уже не представляются столь неблаговидными и древнейшие мифы о детоубийстве, например, гомеровский рассказ о том, как богиня Гера, «желая скрыть, что родила уродливого ребёнка», Гефеста, кинула его с Олимпа на землю, с очевидной целью убить его.[243] К тому же следует ещё заметить, что почти везде, где только дозволялось убийство или устранение детей, обычай требовал, чтобы оно было совершаемо именно в первые дни, иногда даже в тот же день после рождении, то есть как раз в то время, когда матери бывает особенно тяжело лишиться ребёнка ввиду накапливающегося в груди молока. Впрочем, это последнее неудобство часто устранялось, быть может, тем, что кормили грудью щенят или других животных, как это и поныне делают многие народы.[244]
Итак, если стать на такую точку зрения, с которой можно было бы смотреть с полнейшим равнодушием на всё, что заявляет отсутствие теперешней нравственности, и вместе с тем относиться сочувственно ко всему, в чем проглядывает хоть малейший, едва уловимый признак нравственного движения, тогда представится возможность уразуметь и этическое значение детоубийства, как фактора в культурном развитии человечества. Но стать на эту точку зрения, то есть вдуматься хоть с некоторой отчётливостью в столь отдалённые для нас времена крайнего варварства, чрезвычайно трудно. Позволительность и даже законность детоубийства у некоторых теперешних народов не облегчает нам этой задачи. Мы видим у них только факт; но для того, чтобы понять этическое значение его, нам следовало бы стать мысленно на нравственный уровень дикаря, что именно и представляется столь затруднительным. Поэтому при исследовании этого вопроса, приходится довольствоваться почти одними только отвлечёнными соображениями, высказанными выше.
После этих предварительных замечаний обратимся теперь к греческим мифам о детоубийстве, бросании детей и пр., и посмотрим, подобно тому, как мы делали во всех других случаях, насколько этим мифическим рассказам соответствуют данные, известные нам из исторических времён Греции.
Греческая мифология представляет ужасающее количество примеров, где родители нарочно лишаются детей то подкидыванием их, или точнее, бросанием их на произвол судьбы, то непосредственным убийством. Самые древние, по моему мнению, мифы, в которых родители съедают детей, я оставляю пока в стороне. Гигин, поместивший в своём необъёмистом мифологическом сборнике перечень замечательнейших примеров детоубийства, встречаемых в греческих мифах, насчитывает 15 имён то отцов, то матерей, убивших ребёнка, причём следует ещё заметить, что в этом перечне не встречается много случаев, упоминаемых даже им самим в ином месте.[245] Кроме того, в его книге разбросаны ещё многочисленные примеры подкидывания, так что можно насчитать до 12 имён подкинутых детей, причём опять-таки следует заметить, что упоминаются имена только тех детей, которые, против желания родителей, остались в живых. Более старинными мне кажутся рассказы о непосредственном убийстве, так как подкидывание указывает уже на некоторое смягчение нравов; в середине же находятся те мифы, где ребёнок, например, ослепляется[246], или где ему прокалываются ноги с той целью, чтобы с большей вероятностью рассчитывать на его гибель[247]. Подтверждением тому, что умерщвление детей предшествовало простому бросанию или подкидыванию их, служит между прочим то обстоятельство, что детоубийство встречается в греческих мифах гораздо реже, в то время как примерами подкидывания чрезвычайно богата вся греческая мифология.[248] Древность мифов о детоубийстве доказывается ещё и множеством видоизменений, которым они, по-видимому, подвергались. Так, например, в числе мифов об убийстве детей все те случаи, в которых убийство мотивируется то недоразумением, то умопомешательством и т. п., должны считаться искажёнными позднейшей редакцией, особенно же разработкой трагиков.[249] Между ними есть и такие мифы, в которых рассказ об убийстве ребёнка уже до того замаскирован, что определить первоначальную форму бывает чрезвычайно трудно. Могу здесь указать на те мифы, в которых говорится о кидании детей в огонь, куда следует, как увидим, отнести и миф об Ахилле, которого мать, Фетида, держит над огнём «с намерением сделать его бессмертным». В большей части подобных случаев трудно решить, что было содержанием первобытного рассказа – простое ли убиение, принесение в жертву, или каннибализм.[250] В сказаниях же о подкидывании мы нигде не встречаем столь сильных искажений.
Краткий обзор всех этих мифов указывает уже сам по себе, что в древнейшие времена детоубийство было чрезвычайно распространено, и что, следовательно, оно не могло уже тогда считаться делом безнравственным.[251] Но вместе с тем мы заключаем, что уже довольно рано оно стало выходить из употребления и уступило место подкидыванию. Обратимся же теперь к историческим следам этого обычая.
Уже Секст Эмпирик сближает истребление Кроносом своих детей с древними понятиями греков о неограниченной власти отца над жизнью детей, причём ссылается на закон Солона, по которому убийство ребёнка собственным отцом не подлежало суду.[252] Действительно, в Греции устранение детей посредством выбрасывания нигде не воспрещалось, за исключением, кажется, одних только Фив, где законы (Филолая?) подвергали смертной казни отца, подкинувшего своего ребёнка.[253] Почти само собой понятно, что если дозволялось подкидывание, имеющее целью смерть ребёнка, то дозволялось и непосредственное убийство. Беккер, в своём сочинении «Харикл», считая, кажется, умерщвление менее жестоким, чем бросание на произвол судьбы, приводит следующее место из Теренция в подтверждение, что встречалось и прямое умерщвление: «Если бы ты послушался моего совета, то ты бы умертвил её (дочь). Ты же, напротив, порешивши на словах её смерть, дал ей надежду жизни (выбросив её)».[254] Вообще насчёт позволительности у древних греков располагать жизнью новорождённого нет между учёными разногласия, и даже оптимистический Шёманн признает, что «власть отца над новорождённым ребёнком была в Афинах, как и почти везде в древности, мало ограничена законами. Отцу дозволялось если не убивать, то по крайней мере подкидывать ребёнка, когда он не захочет воспитывать его». «Мы имеем, – говорит он, – свидетельства самих греков, что особенно дочери выбрасывались даже богатыми родителями… Но и убийство их, кажется, не считалось запрещённым».[255]
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
240
Относительно детоубийства вообще и его распространённости у разных народов считаю не лишним указать на книгу Шашкова: «Исторические судьбы женщины, детоубийство и проституция», 1871 года, где в начале помещён и перечень главнейших пособий (по 1869 г.). Это сочинение, посвященное преимущественно так называемому «женскому вопросу» (подобно появившемуся раньше сочинению М. Библиомана: «Исторические этюды о женщине, выпуск 1‑й, женщина первобытная», 1867 г.), имеет некоторое значение, как сборник статистических данных новейшего времени; но к данным древней истории оно относится крайне некритически, довольствуясь выводами некоторых новейших учёных и не проверяя их на древних источниках. Поэтому ещё более ощутительным становится и другой недостаток этого сочинении (печатавшегося раньше в одном популярном журнале) – отсутствие цитат. В дополнение к указанной у Шашкова литературе смотр. ещё: Dr. med. Wilhelm Siricker, Ethnographische Notizen über den Kindermord und die künstliche Fruchtabtreibung, в Archiv f. Anthropologie, V, (1872), стр. 451 слл., где между прочим упоминается относительно бросания детей у народов древности сочинение, с которым я не успел познакомиться: Jacob Liecker, Die Behandlung verlassener Kinder im Alterthum.
241
См. Simrock, В. Mythol. 3‑е изд. стр. 233:
Wer seinen Kindern giebt das Brot
Und leidet dabei selber Noth,
Den schlage man mit dieser Keule todt.
На дощечке, прикрепленной к такой палице в городе Ютербоке, помещена та же надпись, причём только вместо «dabei» читаем «nachher». См. А. Kuhn u. W. Schwartz, Norddeutsche Sagen, Märchen und Gebräuche (1818), стр. 88 и прим. Из предания об этой палице, повторяющегося и в других местностях, вытекает, что под людьми, отдающими хлеб своим детям, следует понимать добродушных стариков, разделяющих ещё при жизни все своё имущество между детьми. Ср. Simrock в ук. м. стр. 232: So tritt in Deutschland eine Keule an die Stelle des «heiligen Hammers», der sich in englischen Kirchen aufgehängt findet, wo er einen dunklen Bezug hatte auf den Gebrauch, lebensmüde Greise zu tödten. Bei der deutschen Keule ist es aber so gewendet, dass sie deu Greisen nur gebühren solle zur Strafe ihrer Thorheit, sich ihrer Habe zum Besten der Kinder allzufrüh entäussert zu haben.
242
На этическое значение предания о ютербокской палице указывал уже Шварц: W. Schwartz, Die ethische Bedeutung der Sage für das Volkslebend (1870 г.), стр. 29.
243
Iliad. XVIII. 395.
244
О замечательной распространённости этого странного обычая – кормить грудью обезьян и других животных, – см. Ploss, Die ethnographischen Merkmale der Frauenbrust (nebst einem Anhang: das Säugen von jungen Thieren an der Frauenbrust), в Arch. f. Anthropol. V (1872), Cтp. 219 сл.
245
Hyg. f. 238, Qui filias suas occiderunt (7 примеров.) и f. 239, Matres quae filios interfecerunt (8 примеров).
246
Так, например, Пенфей ослепляет двух сыновей. Hyg. f. 184.
247
Послегомеровское сказание о подкинутом Эдипе. Заметим, что этимологическое происхождение этой части сказания не лишает его всё-таки этического значения.
248
Как и сказания других народов. Насчёт различных форм сказаний о подкидывании интересно взглянуть на таблицу, составленную Ганом, Arische Aussetzungs– und Rückkehr-Formel в его Sagw. Stud., стр. 341.
249
Напр. Eur. Med. 1284, Ино убивает своих детей. Мотив (insania objecta) стал проявляться преимущественно под влиянием сказаний об умопомешательстве, которое играет важную роль в культе Диониса и распространился также на культ Артемиды и других божеств. Отфрид Мюллер утверждает, что это умопомешательство в культе Диониса есть остаток глубочайшей старины, и что только впоследствии к нему прибавилось опьянение от вина. См. К. О. Müller Kleine deutsche Schriften, II (1848), стр. 28 сл., где он между прочим говорит, стр. 29: «Das μαίνεσθαι war das Ursprüngliche und der Wein gesellte sich nur, als dem Charakter des Cultus gemäss, dazu. Wir müssen uns also begnügen in diesem μαίνεσθαι eine eigene Form von Gottesverehrung zu sehen, fur die ja der Orient und die Bibel selbst im Baalsdienst Analogie genug nachweiset». В одном из старинных гимнов Ригведы, обращенном к Марутам, олицетворениям ветров, эти последние сравниваются с сумасшедшими. Rigv. I. 39, 5 слл. (перевод М. Мюллера): …Stürmt heran denn, Maruts, Wahnsinnigen gleich, ihr Götter, mit eurem ganzen Stamme. An eure Wagen habt ihr das gefleckie Reh geschirrt, voran zieht ein rothes Reh. Bei eurem Heranbrausen horchte selbst die Erde auf, es erschraken die Menschen». M. Müller, Vorles, über d. Veda, в его Essays, I (1869), стр. 34.
250
Некоторые подобные примеры мы будем рассматривать в главе о каннибализме в греч. мифах.
251
Гигин, f. 254, приводит в числе самых благочестивых женщин (piissimae) жену Сизифа, Тиро. Про неё он рассказывает, что она убила своих сыновей, чтобы тем спасти своего отца (propter patrem filios suos necavit). Fab. 60: Sisyphus petiit ab Apolline, quomodo posset interficere mimicum id est fratrem (Салмонея). Cui responsum fuit, si ex compressu Tyronis Salmonei fratris liliae procreasset liberos, fore ultores (то есть, что они за него, Сизифа, отомстят Салмонею), quod cum Sisyphus fecisset, duo sunt filii nati, quos Tyro mater corum sorte audita necavit. Cp. f. 239. Этого рассказа, впрочем, нигде больше не встречаем. Известно, что Гигин пользовался иногда источниками, не дошедшими до нас.
252
Sext. Empir. Instit. Pyrrhon. III, 211. Что против этого свидетельства о Солоне говорит Эд. Мейер, не опирающийся при этом ни на какие данные, смотр. ниже.
253
Полагают, что этот закон был издан Филолаем, про которого упоминает Аристотель, Pol. II, 9, 7. Штейц (A. Steitz, Werke und Tage des Hesiodos, 1869, стр. 112 слл.) делает догадку, что в другом месте «Политики» Аристотеля (VII, 14, 10, – VII, 16. стр. 1335b ст. 19 слл.; см. ниже), где говорится о воспрещении бросать детей, Аристотель имеет в виду те же законы Филолая. По этим данным, он старается восстановить их содержание следующим образом: Филолай ограничил, с одной стороны, число детей, то есть определил количество, сверх которого не позволялось иметь детей, а с другой стороны, – запретил их подкидывать, преследуя это преступление смертной казнью. Невероятность такого закона бросается в глаза. Что Филолай ограничил количество детей – это вероятно. Но столь же вероятно, что появившиеся именно вследствие этого закона слишком частые подкидывания вызвали со временем новый закон, преследующий эти последние. Необычайная строгость этого закона подтверждает такое предположение.
254
Becker, Cliarikles, I, стр. 22 (1‑е изд. 1840 года): Wenigstens traf das traurige Schicksal in den meisten Fallen nur die Mädchen, und es blieb dann nicht immer dabei, sie durch Aussetzen oder Verkaufen einem ungewissen Schicksale preiszugeben: sondern der Wille des Vaters bestimmte sie auch geradehin zum Tode. So sagt Chremes bei Terent. Heant. VI, 1, 21:
…nam jam primum, si meum
Imperium exsequi voluisses, interemptam oportuit:
Non simulare mortem verbis, re ipsa spem vitae dare,
worauf er zu beweisen sucht, dass fur das
Kind selbst diess besser gewesen wäre.
Германн в своем новом издании этого сочинения опускает всё относящееся сюда и вводит зато свой собственный взгляд, почти противоположный Беккеровскому См. Becker, Cliarikles, 2‑te Ausg. besorgt von K. F. Hermann, 1854 г. II, стр. 4 слл.
255
Schömann, Griech. Alterth. I, 2‑е изд. стр. 517 и прим. 2; ср. 3‑е изд. стр. 531, прим. 2.