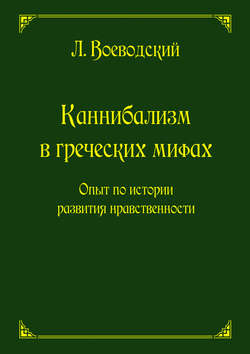Читать книгу Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности - Л. Ф. Воеводский - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности
I. Этическое значение мифов
§ 3. Приложение теории развития к этике
ОглавлениеПрежде чем приступим к мифам, как к источникам при исследовании древнейшего состояния нравственности, я считаю необходимым сказать несколько слов об исходной точке моего взгляда на религиозное и нравственное развитие народов вообще. Сначала замечу, что исследование, занимающееся историей развития нравственности, имеет задачей привести в научную, генетическую связь только самые развитые взгляды различных эпох на нравственность. Известно, что во всякое время, рядом с более развитыми взглядами, существуют и самые грубые, отсталые воззрения, являющиеся представителями прежних периодов развития. Исследовать отношение этих элементов, сохранившихся из различных фазисов развития в данный момент жизни какого-либо народа, не составляет предмета истории развития, а относится к статистике нравственности. Но из этого ещё не следует, что нам никогда и не придётся заниматься состоянием всего общества. Именно в нашем труде, рассматривающем каннибализм, – явление, которое следует отнести к самым отдалённым временам человечества, – мы убедимся, что выделение и отличение в этом обществе более и менее развитых взглядов становится, при вероятной однородности всего общества и при отсутствии всех признаков субъективности, делом невозможным. В первобытные времена развития всё общество, должно быть, представляло такое однообразие во взглядах своих членов, какого впоследствии мы не находим даже и у отдельных личностей. Поэтому-то такие общества и должны во всяком исследовании о развитии нравственности занимать сначала то место, которое впоследствии принадлежит только отдельным личностям, сделавшимся явными двигателями дальнейшего развития нравственных взглядов.
Но кроме этого замечания об основных взглядах на метод нашего исследования, нам придётся здесь ответить ещё на несколько довольно затруднительных вопросов, как, например: что такое нравственность? Есть ли существенное различие между нравственностью и религией? Действительно, иногда мы находим так мало связи между чисто религиозными и чисто нравственными понятиями людей, что отделение одних от других кажется делом необходимым. Но если существует различие, то по каким признакам мы должны отделять религиозное от нравственного, когда с другой стороны, мы видим иногда такое слияние этих областей, что различить их, по-видимому, опять невозможно? Затем представляется не менее затруднительный вопрос: за какими из самых развитых взглядов данной эпохи мы должны признавать религиозное или нравственное значение, и которые из них оставлять в стороне, как не принадлежащие ни к одной из этих областей? А как трудно в ранний период развития отличать, например, веру от науки, это, кажется, нет необходимости подтверждать доказательствами. Из всего сказанного видно, что при исследовании развития нравственности в известном народе, заслуга не будет состоять в одном только количестве собранного материала, так как прежде всего ещё необходимо решить, какой именно материал следует собирать и какой считать ненужным. Очевидна важность той точки зрения, становясь на которую, мы будем рассматривать и группировать многочисленные факты, той мысли, которая послужит связующей нитью разнообразных данных. Такую-то мысль, сложившуюся у меня при рассмотрении хода религиозно-нравственного развития, я и считаю нужным изложить здесь, причём выяснится и то, что, по моему разумению, следует понимать под словами: этика, религия, нравственность – словами, которым каждый придаёт различный смысл.
Уже в самый ранний период человеческого развития должны были явиться взгляды на окружающую природу и на отношения людей, как к этой природе, так и на отношения их друг к другу. В своём первоначальном виде взгляды эти не могут считаться ни моральными, ни религиозными, ни научными, ни, наконец, тем, что мы считаем практическими взглядами, а, напротив, эти взгляды были самого неопределённого качества. Если же нужно, несмотря на это, всё-таки как-нибудь назвать их, то мы назовём их этическими в самом обширном смысле этого слова, не исключающем и не сопоставляющем в себе ни одного из только что указанных нами элементов; не было понятия о том, что следует считать религиозным долгом и что считать грехом; не было также понятия о том, что нравственно, что разумно, и что только полезно; было же какое-то очень неопределённое и смутное понятие о том, что хорошо и что не хорошо.[17]
Под эти две категории подводились и все явления природы, и все действия человека. Руководясь столь неопределённым мерилом, отдельные люди создали себе взгляды и правила, которые первоначально не могли иметь для пользующихся ими личностей особенного, сознаваемого ими значения, или какой-либо обязательности. Тем не менее, будучи, хотя и не сознательно, общепринятыми, они мало-помалу получили нечто вроде внешней санкции, если не в строгом смысле этого слова, то, по крайней мере, в том отношении, что никому не казалось желательным не согласоваться с этими, признаваемыми всеми, правилами и взглядами. Словом, из этих взглядов и соответствующих им правил, образовался обычай. Судить о том, насколько этот обычай сам по себе был морален – нелепо, если под словом «мораль» разуметь степень согласия чего-либо с обычаем. С другой стороны, судить о моральности отдельных личностей, то есть об их согласии с обычаем, было бы то же самое, что судить и о прочности самого обычая. В этом отношении следует предполагать, что обычай был что-то очень непоколебимое, несмотря даже и на то, что в него входили самые мелкие практические правила. Чтобы убедиться в этом, нам следует только взглянуть на непоколебимость обычаев у дикарей и на ту удивительную стойкость, вследствие которой и в наших христианских государствах сохранились, несмотря на все гонения, самые, по-видимому, несущественные и давно уже потерявшие всякий смысл черты из языческого времени.
Полагаю, что из сказанного видно, как я смотрю на зачатки религии, нравственности и науки. Признавая безразличное существование этих элементов в самых первоначальных проявлениях человеческого духа, я отрицаю возможность приложения к ним наших новейших понятий о религии, нравственности и науке. Этот взгляд представляется мне просто последовательным приложением генетического метода к рассматриваемому предмету, хотя и вызовет он, думаю, много возражений. Правда, касательно науки в тесном смысле, я не сомневаюсь, что никому не придёт в голову прилагать к каким бы то ни было первобытным проявлениям человеческого духа тех понятий, которые мы теперь связываем со словом «наука». Отсутствие в первобытном обществе всего того, что мы теперь называем религиозностью, многим покажется невероятным, особенно тем, кто производит всякую религию от сверхъестественных начал. Впрочем, при теперешнем состоянии науки вообще вряд ли наш взгляд нуждается в особенном оправдании, которое считаю более уместным при отстаивании противоположного мнения.[18]
Со временем, при большем развитии человеческого кругозора, в числе общепринятых правил, нашлись и такие, отступление от которых было мыслимо. Стали появляться и новые. Мы должны полагать, что всякое новое правило с трудом получало общее признание. Если оно находилось в сознательном противоречии со старыми воззрениями, то должно было совершенно расшатать к ним доверие, чтобы сделаться принятым хоть частным образом. Именно такие необщепринятые правила и взгляды должны были получить особенный оттенок и составить новую отрасль. Старые взгляды, строгие представители обычая, мы назовём теперь областью этической в тесном смысле, желая сказать этим, что в них скрывались неразвитые зачатки позднейших религиозно-нравственных воззрений. Новую же, выделившуюся отсюда область мы назовём практической. Из неё впоследствии развились более свободные от народного обычая научные взгляды и мелкие практические правила. Для пояснения вышесказанного я считаю нужным заметить следующее.
Я утверждаю, что первоначально практические взгляды отличались от этических только тем, что их можно было и не придерживаться, что они как будто менее вытекали из общей всем людям природы. Поставление столь ничтожного, по-видимому, признака, какова общепринятость, отличительной чертой двух отраслей может показаться не вполне основательным: могут, пожалуй, заметить, что несостоятельность принимаемого мною различия явствует уже из следующего простого соображения: если бы некоторые из необщепринятых, практических воззрений получили случайно всеобщее одобрение, то я был бы принуждён назвать их этическими; а общепринятость или необщепринятость, скажут, ведь это дело произвола. Но действительно ли это дело произвола, это ещё очень сомнительно. Я полагаю, что должны были существовать внутренние причины, по которым известные взгляды явились уже с самых ранних пор и сделались, таким образом, общепринятыми; я полагаю, что и в последующее время, при появлении новых взглядов, должны были существовать подобного рода причины, обусловливающие степень их общепринятости. Но находить эти внутренние причины полагаю если делом не совсем ненужным, то по крайней мере вполне невозможным. Поэтому, мы должны довольствоваться пока внешней отличительной чертой, отделяющей две области на первых же порах их отдельного существования. Мы и на самом деле видим, что многое, относимое теперь к какой бы то ни было отрасли человеческого духа, только не к религии или морали, прежде не представляло никакого различия с теми взглядами, в строго этическом значении которых нет никакого сомнения.
Для примера укажу на этическое значение способа добывать огонь. Мы не знаем ни одного народа, у которого бы огонь не был во всеобщем употреблении. Все рассказы о существовании народов, будто бы не знающих огня, лишены всякой достоверности.[19] Поэтому мы смело можем заключить, что искусство добывать огонь (а именно посредством трения) было одним из самых древнейших открытий. Отсюда естественно вытекала, вследствие неразвитости первобытного человечества, общепринятость при добывании огня всех мелочных приёмов и правил, оказавшихся с течением времени даже и непрактичными, именно когда появилась возможность достигать той же цели более удобными способами. Нам известно, что у арийцев старый способ представлялся чем-то святым; отступление от него считалось непозволительным. В способе добывания огня нам бросается в глаза его религиозное, то есть этическое значение. Отрицать это значение – немыслимо, а искать его источника в чем-либо ином, кроме именно общепринятости, то есть тесной связи с установившимся обычаем, мы не видим никакой возможности.
Итак, для отделения двух отраслей, практической и этической, в их первоначальном виде, я не могу указать никаких внутренних отличительных черт; я только стараюсь показать, как, по моему разумению, восстановилось исторически различие между двумя областями, из которых впоследствии одна послужила для развития религии и морали, другая – для практических правил и науки. Конечно, в наше время различие взглядов по степени их распространённости должно считаться несущественным и односторонним, но из этого ещё не следует, чтобы оно в известное время не было единственно возможным. С той поры, как к этической области присоединился элемент веры, то вера с одной стороны, научное убеждение с другой, становятся отличительными чертами, причём, как увидим, наше теперешнее различие делается недостаточным. Впрочем, относительно названия двух вышеупомянутых областей этической и практической, я должен ещё раз заметить, что эти названия должны отчасти считаться преждевременными. Ими я хотел только указать на то, что из одной развились со временем взгляды, получившие впоследствии значение этическое (в более тесном смысле этого слова), и что другая область послужила источником для позднейших научных и практических воззрений и правил.
17
Для пояснения послужит следующий пример. Один бушмен, спрошенный о различии добра и зла, сказал, немного подумавши: «Хорошо украсть чужую жену, но худо, если у самого меня украдут мою». Perty, Anthropologische Vorträge (1863), стр. 177. Тут очевидно полнейшее смешение понятий полезного, нравственного и проч. Даже в гомеровской этике, стоящей на гораздо высшей ступени развития, мы замечаем нечто подобное. Nägelsbach, Нот. Theol. (2 изд. 1861), стр. 228:… es ist der charakteristische Standpunkt der homerischen Ethik, dass die Sphären des Rechte, der Sittlichkeit und Religiosität bei dem Dichter (y Гомера) durchaus noch nicht auseinander fallen. В смешении с этими сферами права, нравственности и религиозности у Гомера смело ещё можно призвать и принцип полезности. Всего ярче это смешение выказывается при жертвоприношениях, сильно напоминающих собой основной смысл жертвоприношений у индийцев, который состоял первоначально единственно в том, чтобы обязать божество вознаградить молящихся за принесённую жертву. См. A. Weber, Zur Kenntniss des vedischen Opferrituals в Indische Studien, X (1868), стр. 332, прим. 1. См. Odyss. III, 58. Limburg Brouwer, Historie de la civilisation des Grecs, II (1834), стр. 520: Les bienfaits des dieux; sont le prix des hecatombes, et voila pourquoi les voeux ne sont proprement que la stipulation d’une convention mercantile.
При этом случае считаю не лишним указать, что и греческие слова άγαθός, χαχός и т. п. получили своё полное этическое значение только впоследствии. Грот (G. Grote) ссылается, как на основательное исследование значения приведённых слов, на соч. Welcker, Prolegomena zu Theognis, sect. 9–16. Сам он говорит (History of Greece, ed. 1862, I, стр. 459): These words (good, just etc.) signify the man of birth, wealth, influence and daring, whose arm is strong to destroy or to protect, whatever may be the turn of his moral sentiments; while the opposite epithet, had, designates the poor, lowly and weak, from whose dispositions, be they ever so virtuous, society has little either to hope or to fear. Ho вследствие этого не нужно, однако, полагать, что эти слова первоначально были лишены всякого этического значения, куда клонит Грот; там же, прим. 4: The ethical meaning of the word hardly appears until the discussions raised by Socrates, and prosecuted by his disciples: hut the primitive import still continued to maintain concurrent footing.
18
Лимбург Брауер, признавая первобытность нравственного чувства, вполне, однако, отрицает такую же первобытность религиозного чувства. Limburg Brouwer, Historie de la civilisation morale et religieuse des Grecs, II (1834), стр. 2: «Il n’y a d’inne que le sentiment moral»… Ошибка происходит оттого, что религию он понимает в слишком тесном смысле (croire en Dieu). По мнению Фюстель де-Куланжа, у арийцев религия начинается с появления семьи, причём, первым божеством он считает обоготворённого по смерти отца. Fustel de Coulanges, Cite antique (1864), стр. 20: «Cette religion des morts paralt etre la plus ancienne qu’il у ait ea dans cette race d’hommes. Avant de concevoir et d’adorer Indra on Zeus, l’homme adora les morts; il eut peur d’eux, il leur adressa des prieres. Le sentiment religieux eommenca par la. Сравни с этим Ausland 1671, Ueber die Anfänge der geistigen und sittlichen Entwickelung des menschlichen Geschlechts, стр. 1035. «Aus Furcht vor der Rückhehr der Abgeschiedenen erklären sich viele Gebraüche bei den Begräbnissen. Eine grosso Anzahl verschiedener Menschenstämme beerdigen mit den Verstorbenen alle ihre Habe aus Besorgniss. der Abgeschiedene möchte sich durch quälende Träume an den Erben rächen. Bei reifern Vоlkern geht die Furcht allmählich in Verehrung übern. Бестужев‑Рюмин, в своей «Русской истории», I (1872), стр. 10, справедливо называет взгляд Фюстель-де-Куланжа односторонним. Сам он считает нужным возвести начало религии к более древней поре (кочевого быта), и полагает, что первым божеством было небо. Однако и это мнение тоже может считаться сомнительным. (Приведённое там же в примечании доказательство, на мой взгляд, кажется недостаточным). Этимология санскритского devas и соответствующих ему названий чуть ли не во всех индоевропейских языках сводится к корню div, dju, означающему блеск. См. Curtius, Grandzüge der Griech. Etymologie (3‑е изд. 1869 г.), стр. 222. Лео Мейер в Zeitschr. f. vergl. Sprachforschung, VII (1858), стр. 12 и след., находит вероятным, что и немецкое Gott происходит от корня div (посредством djut = dju). Смотри, впрочем, Simrock, Handbuch der deutschen Mythologie (1869), стр. 150, где странным образом игнорируется догадка Лео Мейера, и приводится только мнение Гримма. Grimm, Deutsche Mythologie, 3‑е изд., стр. 12). Некоторые от того же корня производят ещё и из deihos = deivas. Cр. G. Bühler в Or. и. Осc. I (1862), стр. 508 слл. II (1864), 338 слл. Сколь ни сомнительны эти последние две этимологии и, всё-таки видно, что в большей части случаев бог назывался «блестящим»; нет причины полагать, чтобы этот эпитет первоначально придавался небу, а не солнцу или просто огню. Заметим ещё следующее мнение. Delbrück, Ueber d. Verhältniss zw. Religion u. Mythologie в Zeitschr, f. Vоlkerpsychologie, III (1865), стр. 493: Es ergiebt sich aus der Etymologie mit vollständiger Gewissheit (?), dass das Wort Gott hei seiner Bildung einen religiösen Inhalt noch nicht hatte. Под словами «religiösen Inhalt» тут, конечно, следует понимать религиозное содержание в нашем, современном значении этого слова. Нет никаких данных, на основании которых можно было бы утверждать, что явление блеска производило на древних, первобытных людей именно то же самое впечатление, какое оно производит на нас, и вместе с тем нет возможности отрицать, чтобы ощущение блеска не сопровождалось благоговением или страхом, или чем-либо другим, заключающим в себе оттенок религиозный.
19
Klemm, Allgemeine Culturwissenschaft. Die materiellen Grundlagen menschlicher Cultur I (1855), стр. 66: Wir finden die Menschen auf keinem Puncte der Erde ohne Feuer. Относительно народов, не знающих будто бы огня, и о невероятности подобных рассказов, см. E. В. Tylor, Researches into the early History of Mankind (1865), стр. 228 и след.