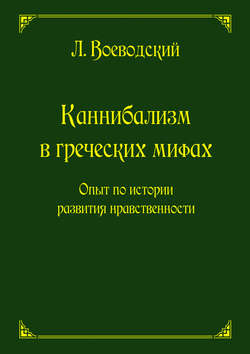Читать книгу Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности - Л. Ф. Воеводский - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности
II. Грубость нравов, отразившаяся в греческих мифах
§ 10. «Золотой век»
ОглавлениеЕсли мы только всмотримся в ту ужасную дикость, которая рисуется в бесчисленном множестве греческих мифов, то будем в состоянии оценить значение целого ряда сказаний о первобытном блаженстве человечества, о так называемом золотом поколении или веке. Эти сказания сильно напоминают нам естественную грусть некоторых дикарей о прошлом, блаженном состоянии, когда ещё существовал «добрый, старый обычай», позволявший между прочим есть даже человеческое мясо.[110] Если в греческих сказаниях о золотом веке и не кроется именно эта мысль, то нет всё-таки ни малейшего сомнения, что они сложились на основании тех же самых психологических данных, как и все другие воспоминания «о прежних, лучших временах». Если вспомним, как даже величайшие бедствия, пережитые нами, со временем слагаются в нашей памяти в романтическую, не лишённую привлекательности картину, то существование подобных воспоминаний, получивших со временем значение традиционной истины, никак не покажется нам неестественным. Подобным путём у нас, например, сложились романтические понятия о фактически столь диких временах, каковы были в сущности средние века. Я бы счёл даже лишним приводить что-либо в подтверждение этого объяснения подобных сказаний, если бы не существовала, к сожалению, целая литература, эксплуатирующая их в пользу своих теорий о первобытной невинности человечества, о последовавшем падении его, о сознании этого падения и т. п. Не останавливаясь на ненаучности, иногда даже просто лживости приёмов подобного направления, я ограничусь здесь одним указанием на самые сказания об этом золотом веке. Интересны они для нас в том отношении, что одно их существование придаёт в наших глазах особенное значение существованию и совершенно противоположных взглядов, которые заставляют нас подозревать в них другое, именно историческое, более для нас важное основание.[111]
У Гомера хотя и не высказан прямо контраст между прежними героями и современными ему людьми, тем не менее, как и следовало бы предполагать, этот контраст довольно ярко проглядывает. Прежнее общение людей с богами, служащее впоследствии главнейшим признаком золотого века, является в гомеровскую эпоху уже очень ограниченным.[112] Каковы были отношения прежних героев, которых Гомер называет даже полубогами[113], мы всего лучше можем видеть из описания быта «счастливых» фэаков: «С древнейших времён, – говорит царь их Алкиной, – нам боги всегда являются видимо, когда мы им приносим славные гекатомбы; они пируют, сидя рядом с нами. Даже если кто из нас встретится с ними на пути, они ничего пред ним не скрывают, ибо мы им так же близки, как Циклопы и буйный народ Гигантов».[114]
В другом месте он следующим образом описывает блаженную жизнь своего народа: «Всегда мы наслаждаемся пиршествами, игрою на кифаре и пляскою, богатым запасом одежды, тёплыми кушаньями и отдыхом в кровати».[115] С этим местом Нэгельсбах[116] удачно сравнивает описание домашней жизни у Эола, «друга бессмертных богов». «У него в доме 12 детей: 6 дочерей и 6 сыновей в юношеском возрасте. Дочерей своих он дал сыновьям в жёны. Все они вечно пируют вместе с милым своим отцом и с дорогою матерью; пред ними лежат бесчисленные яства; в исполненном благоуханий доме днём звучит флейта, а ночью все они лежат у скромных жён на удобно устроенных ложах».[117]
В сравнении с этим поразительна грусть, с которой Гомер отзывается об участи человека в тех местах, где отразился его взгляд на ничтожность современных ему людей. По его словам, из всего, что дышит жизнью и движется на свете, нет ничего несчастнее человека, нет ничего ничтожнее и непостояннее его.[118] Итак, воображаемое довольство и изобилие, в котором жили прежние люди, вместе с близким общением с богами, с одной стороны, и преувеличенное сознание беспомощности человека, с другой, являются у Гомера элементами, из которых со временем сложились сказания о золотом веке, основанном будто на нравственном превосходстве прежних людей. Вследствие направления, принятого развитием нравственности, это нравственное превосходство первобытного человека являлось единственным мыслимым мотивом, оправдывающим его блаженное состояние. Подобным образом и мнимое падение человечества было выводимо из нравственной порчи. Замечательно только, что греки относили эту последнюю тоже к древнейшим временам.
Уже у Гесиода мы находим ясно высказанную мысль, что причиной падения человечества была невоздержанность в порывах страсти и непочитание богов: «Не могли они воздержаться от своевольных обид, наносимых друг другу, и не хотели соблюдать обязанностей против бессмертных, ни же творить жертвоприношения на священных алтарях усопших, как это установлено обычаем».[119] Затем, во многих сказаниях стал уже появляться мотив, по которому причиной падения послужила надменность прежних людей, вытекающая будто из слишком благосклонного обращения с ними богов.[120] Тем не менее составленные раз понятия о нравственном превосходстве первых поколений человечества удержались до позднейших времён, и ещё у Павсания мы встречаем этот взгляд в самой догматической форме. «Тогдашние люди, – говорит он, – были друзьями и собеседниками богов вследствие своей справедливости и благочестия; за добрые поступки боги явно выказывали им своё благоволение, точно так же, как и гнев в случае вины; тогда ведь от людей рождались даже боги, которые до сих пор пользуются почётом… В моё же время зло возросло до высшей степени и захватило всю землю, все города; не рождаются больше от людей боги, кроме только таких, которые называются богами вследствие лести к высокопоставленным; наказание же виновных ниспосылается богами поздно, и то только после смерти».[121]
Высказанный Павсанием мифический взгляд до сих пор ещё не исчез, хотя, конечно, и подвергся некоторым изменениям. Психологический источник подобного взгляда на превосходство прошедшего в сравнении с настоящим не мог иссякнуть; будучи поддерживаем различными преданиями, он производит с удивительной силой не менее мифические взгляды и в настоящее время. Для примера приведу здесь слова Лазо, в которых я не замечаю существенного различия с только что указанными греческими мифами о золотом веке. К чести автора следует, однако, заметить, что он по крайней мере не приводит этих сказаний в подтверждение своего мнения, как это делают многие другие, менее добросовестные учёные. Вот что он говорит насчёт первобытного состояния человечества: «Я себе представляю это дело таким образом: в сознании первобытного человека отразилась фактическая связь с божеством, подобно тому как ребёнок сознаёт свою зависимость от матери (Der ursprungliche Mensch hieng durch die Substanz seines Bewusstseins wesentlich mit Gott zusammen, wie das Kind mit seiner Mutter). Он чувствовал себя сотворённым и вследствие этого прямо обязанным Творцу за всё своё существо и за всё то, чем он обладал. Воле Божьей он был обязан своим существованием; он чувствовал, что божество всюду его окружает; воля человека находилась в полнейшем согласии с богом, – господствовала и проявлялась только воля божья. Но это, установленное самим богом при сотворении человека, согласие (субъективной) человеческой и (объективной) божественной воли не удержалось навсегда. Силы, которые движут небесными телами, именно силы центростремительная и центробежная, движут также и душою человека, только с тем различием, что те (небесные тела) поддаются им со слепой необходимостью, а душа человека может переносить центр тяжести своей воли то в ту, то в другую из этих сил, и что, будучи предоставлена сама себе, она перенесла этот центр тяжести в последнюю. Произошёл разрыв между человеком и божеством. Предоставленную ему возможность – желать противное богу, человек осуществил на деле; вследствие его согрешения произошло различие между его волею и волею Бога».[122]
Считаю достаточным указания на подобного рода взгляды, чтобы убедить читателя в важности, которую следует признавать за сказаниями совершенно противоположной тенденции. Если учёные до последнего времени не обращали особенного внимания на эти сказания о первобытной дикости человечества, то это происходило именно вследствие господства теорий о золотом веке. Конечно, нет причины приписывать строго историческое значение преданиям о первобытной грубости, точно так же, как нельзя полагаться на историческую верность ни одного из древних сказаний, пока оно не проверено научной критикой. Но вполне отрицать в них более глубокое, основанное на фактических данных, значение и считать их пустыми соображениями греческих философов или фантазией поэтов, как это, например, делают Дункер[123], Преллер[124], даже Германн[125], мы не имеем никакого основания.
Считаю необходимым обратить особенное внимание на дошедшие до нас изречения касательно первобытной дикости человечества преимущественно потому, что в них высказались взгляды, которые, на мой взгляд, могли сложиться только вследствие существования в данное время некоторых следов первобытной дикости, именно вследствие грубых мифов и обрядов, носящих явный отпечаток своей древности. Пока ум человека относился к подобным фактам менее критически, он мог признавать древность их происхождения, не видя, однако, в дикости их никакого противоречия с составленными им заранее понятиями о первобытном, райском состоянии человечества. Но с течением времени подобное некритическое отношение не везде могло удержаться, и вот, хотя и довольно поздно, появляются мнения о дикости первобытных людей, об отсутствии у них нравственных понятий и, что особенно для нас важно, о первобытном каннибализме. Если нам удастся восстановить связь между этими взглядами, с одной, и мифами и обрядами, с другой стороны, то вытекающая отсюда для нас польза очевидна: мы узнаем, как эти последние понимались самим народом. Для исследования греческой нравственности это народное понимание греческих же обрядов и сказаний послужит новым пособием для уразумения развития греческой нравственности. Если мнения о грубости первобытного общества основаны именно на мифах и обрядах, то очевидно, что даже самые грубые мифы понимались народом в буквальном смысле, и что не иначе понимались некоторые эпитеты божеств, сохранившиеся в древнейших культах. Так, например, мы поймём значение подобных названий: Διόνυσος ώμηστής – Дионис, пожирающий сырое мясо, Ζεύς άνθρωπορραίστης – Зевс, растерзывающий людей, или Ζεύς λαφύστιος – Зевс пожиратель, которым, заметим, приносились и человеческие жертвы. Вслед за тем и первобытная форма связанных с этими именами культов выкажется в своём настоящем свете.
Для восстановления связи между пессимистическими греческими взглядами на первобытное состояние человека и грубостью древнейших греческих мифов и обрядов, связанных с этими мифами, я считаю необходимым указать и проследить у самих греков фактическое сознавание контраста между неразвитой нравственностью, отразившейся в мифах, и позднейшими, более развитыми взглядами на нравственность, контраста, который со временем сделался даже очень ощутительным.[126]
Я старался показать выше, что и в гомеровских песнях мы должны предполагать отчасти критическое отношение к мифам, так как некоторые сказания, которые для известной, более развитой среды могли казаться неприличными или безнравственными, в этих песнях не упоминаются, несмотря на то, что мы имеем, однако, основание предполагать их существование в низших слоях тогдашнего общества (см. § 7). Поэтому интересно, что уже Ксенофан, живший в VI и V столетии до Р. Х., говорит, что Гомер и Гесиод приписывали богам все те поступки, которые у людей считаются постыдными и заслуживающими порицания, утверждая, что боги воровали, прелюбодействовали и обманывали друг друга.[127] Он же замечает, что люди срисовывали при этом картины только с самих себя. «Если бы быки, львы (и прочие животные) могли рисовать и производить такие же дела, как люди, то лошади изображали бы богов по-лошадиному, а быки по-бычачьи, придавая им тот вид и то же телосложение, которое имеют сами.[128] Ксенофан называет все рассказы, прямо противоречащие его идеалу, выдумкой прежних людей.[129] Точно так же смотрит на мифы и Пиндар. Коснувшись мифа о съедении Пелопса, он отвергает его, утверждая, что «нелепо представлять кого-либо из богов обжорой».[130] Он даже войны и сражения считает делами неприличными для богов и называет подобные рассказы просто богохульством.[131] На этом основании мы можем догадываться, какими глазами смотрел Пиндар на Гомера и Гесиода, которых обыкновенно считали виновниками подобных сказаний.[132] Ещё ярче выразилось сознание всей безнравственности древних мифов у Исократа. Поэты, по его мнению, изображают не только героев, сыновей богов, исполняющими более ужасные злодеяния, чем дети самых безбожных людей, но и самим богам приписывают такие поступки, в которых никто не решился бы обвинить даже своих врагов. Они обвиняют их не только в таких поступках, как воровство, прелюбодеяние, рабское служение у людей, но даже в пожирании собственных детей, оскоплении отцов, связывании матерей и в множестве других преступлений.[133]
С этою картиной безнравственности в поступках богов и героев стоит только сравнить описания первобытной дикости человечества, чтобы убедиться, что в последних нет ни одной черты, которой нельзя было бы найти вместе с тем и в мифах. Достаточно было бы этого одного сравнения для убеждения в том, что подобные описания, если бы даже и не имели другого, более глубокого основания, то всё-таки никак не могли бы называться просто «преувеличенным выражением фантастичной философии поэтов». Уже трагик Мосхион, живший около 400 года до Р. Х., говорит: «Был когда-то век, когда люди вели жизнь, похожую на жизнь зверей и когда бессильный становился пищей сильнейших».[134] В более обобщённой форме высказан тот же взгляд у жившего около того же времени трагика Крития: «Было время, когда жизнь людей не имела законов, и, будучи похожею на жизнь диких зверей, руководилась только силою».[135] Чтобы убедиться в распространённости подобного пессимистического взгляда, стоит только обратить внимание на учение эпикурейцев о происхождении человеческого племени и о полнейшей дикости первобытных людей, – взгляд, проповедуемый в Италии Лукрецием[136] и впоследствии получивший изящное выражение в следующих известных словах Горация: «Когда выползли живые существа из первобытной земли, то это немое стадо боролось из-за жёлудей и логовищ сперва ногтями и кулаками, потом палками» и т. д. Наконец, в довершение дикой картины, поэт добавляет: «Гибли безызвестной смертью те, которых сильнейший, подобно быку в стаде, убивал в то самое время, когда они, по звериному обычаю насилием удовлетворяли любовной беззаконной страсти“.[137] Относительно первобытного каннибализма, кроме приведённого уже изречения Мосхиона, до нас дошло ещё несколько других. Так, у Секста Эмпирика мы находим следующее изречение: „Было время, когда люди поддерживали свою людоедскую жизнь (питаясь) друг другом и когда сильнейший съедал слабейшего“.[138] Секст Эмпирик, сам живший около 200 года после Р. Х., приводя эти слова, называет их изречением Орфея, что, впрочем, не может служить доказательством их глубокой старины. Затем, для указания всего ужаса жизни, не руководящейся законами, он продолжает: «Так как никто не наблюдал за законом, то всякий имел справедливость в своих руках (в силе), и людям было предоставлено, подобно рыбам, диким зверям и летающим хищным птицам, съедать друг друга, потому что между ними нет закона, до тех пор, пока божество, сжалившись над ними, не ниспослало страждущему человечеству богинь-законодательниц, которые более удивили людей уничтожением людоедского беззакония, чем смягчением образа жизни посредством (назначения в пищу) плодов».[139] Существуют ещё два изречения, в которых, однако, указание на антропофагию менее ясно. Первое из них у Аристофана: «Орфей указал нам мистерии и научил воздерживаться от убийств»; второе у Горация: «Орфей отучил лесных людей (sic) от убийств и возмутительной пищи»[140].
Во всех этих изречениях мы не находим ничего такого, чего мы не могли бы отыскать и в мифах. Но я желал бы показать, что не одни только мифы служили основанием подобных воззрений на первобытное состояние человека. Самые мифы, ввиду вышеуказанных нападок, не устояли бы, если бы не было явных, доступных и глазам древних, причин признавать в них действительные остатки глубочайшей старины. В самом деле, существование даже в поздние времена многих странных обычаев в некоторых странах Греции прямо подтверждало рассказы мифов.[141] Но, чтобы положительным образом убедиться в историческом значении этических указаний, которые мы находим в мифах, – точно так же, как и в приведённых изречениях, я возьму некоторые, более грубые бытовые стороны, изображаемые в мифах, и постараюсь указать, а когда нужно будет, и проследить соответствующие явления в древнейшей истории греческого народа. В следующих параграфах мы будем рассматривать преимущественно ложь, воровство, разбой; затем окажется необходимым бросить взгляд на обычай умерщвлять или покидать своих детей, и, наконец, перейдём к рассмотрению каннибализма.
110
Cм., например, Wundt, Vorlesungen üb. Menschen– u. Thierseele, II. cтp. 131: Auf den Fidschiinseln hatten sich schon vor der Ankunft der Europäer Volksparteien gebildet, die das von der Nobilität als gute alte Sitte geübte Menschenfressen… bekämpften и т. д.
111
Только в названии блаженного века «золотым» скрывается, может быть, некоторый намёк на исторические воспоминания о прежнем обилии золота. Смотри, однако, что против этого говорит Шёманн, Griech. Alterth. I (3‑е изд.), стр. 75 сл. Но и без того, этот век мог получить своё название по аналогии с названиями других веков: медного и железного, которые опираются, по-видимому, действительно на исторические воспоминания. У Гесиода говорится собственно о золотом, серебряном и т. д. поколении людей. Но что эти выражения понимаются им в переносном смысле, можно заключить из того места, где он говорит о «медном поколении людей, сделанном из ясеневого дерева». Hesiod. Oper. 143. Сравн. Preller, Griech. Mythol. I (3‑е изд.), стр. 43, прим. 2: … das dritte Geschlecht aus Eschenholz… weil nehmlich der Schaft der blutigen Stosslanze gewöhnlich von der Esche genommen wurde. В некоторых греческих сказаниях сохранились даже, как увидим, воспоминания и о каменном веке.
112
Nägelsbach, Homerische Theologie (2‑о изд.), стр. 153: Es findet sich aber über Abnahme des Verkehrs zwischen Menschen und Göttern auch ein bestimmt ausgesprochenes Bewusstsein.
113
Iliad. XII, 23.
114
Odyss. VII, 201.
115
Odyss. VIII, 248. Сравн. в Ameis, прим. к этому м.
116
Nägelsbach, в указ. соч. стр. 358.
117
Odyss. X, 5. «Бесчисленные яства» напоминают нам, что обжорство когда-то не считалась пороком, а напротив – доблестью. Сравни сказания о героях, пожирающих быка, выпивающих реку, вступающих в состязание, кто больше съест (как, например, Геракл с Лепреем, Paus. V, 5, 4), и т. п. Некоторые примеры обжорства в сказаниях см. в Or. u. Occ. I, стр. 16, 41, 341, II, 296 слл. и 683. В Индии считалось преимуществом одних только браминов, что им было позволительно до того неумеренное употребление напитка сома, что он вытекал у них чрез все отверстия тела; см. A. Weber, Collectanea über die Kastenverhältnisse in den Brähmana und Sütra, в Indische Studien, X (1868), стр. 1 слл. В связи с этим, я полагаю, находятся и жирные изображения индийских богов.
118
Iliad. XVII, 446, Odyss. XVIII, 130.
119
Hesiod. Oper. 134.
120
См. Preller, Griechische Mythologie, I, стр. 64 слл., где для примера приводится сказание о Тантале, о котором упоминает Пиндар, Pind. Ol. 1, 54 (ed. Schneidewin).
121
Paus. VIII, 2, 4 сл.
122
E. v. Lasaulx, Die Sühnopfer der Griechen und Römer und ihr Verhältniss zu dem einen auf Golgotha в Studien (1854), cтp. 235 слл.
123
Duncker, Geschichte des Alterthums, III (=Gesch. der Griechen, I, 1856), стр. 11: Dieses System (von den verschiedenen Zeitaltern bei Hesiod) hat eine gewisse Verwandtschaft mit der indischen Lehre von den vier Weltaltern, mit den Vorstellungen anderer Völker von dem Sinken der Menschheit, je weiter sie sich von ihrem göttlichen Ursprung entfernt; aber es ist keine historische Tradition. Ebenso entbehren die Spekulationen der griechischen Philosophen über die Vorzeit ihres Volkes, der Pragmatismus der spätern Historiker (Diodor V, 4; Pausanias), dass die Menschen der alten Zeit armselig in Klüften und Hohlen gehaust, jedes historischen Grundes.
124
Preller в указ. м. стр. 65, прим. 2; Gewöhnlich liegt (solchen Schilderungen der rohen Urzeit) die Vorstellung von den rohen und blödsinnigen zu Grunde, welche namentlich seit Aristoteles von den Culturhistorikern immer weiter ins Einzelne ausgefubrt wurde. Преллер не считает нужным вникнуть, откуда взялось самое понятие об этих диких γηγενεϊς, что мне именно представляется самым важным.
125
Hermann, Lehrbuch d. griech Antiqu. II, § 27, прим. 3 (изд. Штарка 1858 г. стр. 158): Stellen aber, wie die orphische bei Sextus Empiricus adv. Math. (о первобытном каннибализме), können nur als hyperbolischer Ausdruck phantastischer Dichterphilosophie (?!) gelten, причём Германн ошибочно ссылается на сочин. Lobeck, Aglaophamus, стр. 247. См. примечание Штарка к вышеприведённому месту.
126
Нэгельсбах, отрицая в древних мифах нравственную сторону, признается, однако, что предположение безнравственных божеств не согласуется с требованиями человеческого рассудка. Интересно, как он смотрит на стремление позднейших греков очистить мифологию от безнравственных элементов. Nägelsbach, Nachhom. Theol. стр. 44: Nun sind über die Götter von Homer durchaus nicht als heilig überliefert worden (cp. Hom. Theol. 1, 15 слл., стр. 37 сл.). Wenn sich also… die Vorstellung von den Göttern reinigen soll, so erwarten wir zu allernächst eine Bekämpfung der unsittlichen und unwürdigen Geschichten, welche wohlgemerkt vom Volke nicht als symbolische und allegorische Mythen, sondern als Thatsachen geglaubt wurden. Noch Aeschylus findet sich liier in einer merkwürdigen Klemme zwischen der Ueberlieferung und dem vernunftgemässen Glauben an göttliche Sündlosigkeit. Eum. 640 (631) wirft der Erinyenchor dem Apollon vor, dass dieser behaupte, Zeus habe dem Orestes seines Vaters Ermordung an der Mutter zu rächen geboten, während Zeus doch selbst seinen Vater Kronos in Fesseln gelegt… Die Klemme entsteht, indem eine theogonische Mythe, die garnicht ins sittliche Gebiet gehört (?!), als historische Thatsache gefasst und in einen ihr völlig fremden Bereich hineingezogen wird (непостижима бестактность Эсхила!). Apollon kann, um Zeus von einem Frevel zu befreien, nichts anderes thun, als den Unterschied zwischen Tödtung und Fesselung zu urgiren, wogegen stets die Antwort übrig bleibt, dass den Vater in Fesseln zu schlagen eben auch ein Frevel ist. Xenophanes und insbesondere Pindar sind in solchen Fällen entschlossener; sie läugnen dergleichen Mythen geradezu. Сравни там же стр. 428. Насчёт взгляда Платона на мифы, см. там же стр. 45: Platon weiss nun zwar, dass von dergleichen Mythen manche symbolisch oder allegorisch sind (Rep. стр. 378 D); aber weil die Jugend und, fügen wir bei, der Volksglaube nicht im Stande ist zu unterscheiden und gleichwohl dergleichen so will er bekanntlich alle diese von ihm auf Homer und Hesiod zurückgeführten Erzählungen, welche so wie sie sind vom Volke als Thatsachen geglaubt werden, aus seinem Staate verbannt wissen (Rep. стр. 377 D. слл.).
127
Sext. Emp. adv. Mathem. IX, 193. Сравн. там же I, 289.
128
Clem. Alex. Strom. V, § 110, ed. Pott. стр. 715 (=Eus. Ргаер. Ev. XIII, 13, ed. Vigeri стр. 679).
129
Xenophon. Eleg. I, 19.
130
Pind. Ol. I, 52 (ed. Schneidew).
131
Taм же, IX, 35.
132
Herodot. II, 53.
133
Isocr. XI, 38.
134
Stob. Eсl. ph. I, 9, 38 стр. 240 (Nauck, Trag. graec. fr. стр. 633, Moschionis fr. 7).
135
Critiae Sisyph. (Nauck, Trag. graec. fr., стр. 598).
136
Lucr. V, 927 слл.
137
Ног. Sat. I, 3, ст. 99:
Cum prorepserunt primis animalia terris
Mutum et turpe pecus, glandem atque cubilia propter
Unguibus et pugnis dein fustibus…
Pugnabant, etc.
и ст. 108:
…Sed ignotis perierunt mortibus illi,
Quos venerem incertam rapientes more ferarum
Viribus editior caedebat, ut in grege taurus.
Касательно venus incerta = scortum в противоположность matrimonium stabile et certum смотри Kruger в прим. к Ног. Sat. I, 3, 109.
138
Sext. Emp. adv. Mathem. II, 31.
139
Там же. Замечание Секста Эмпирика очень остроумно. Нельзя отрицать, что в истории цивилизации переход к земледельческой жизни занимает очень видное место. Но судя по важности, придаваемой ему мифами, можно даже заключить, что у греков переход этот произошёл довольно быстро (путём заимствования?). Интересно взглянуть, как сильно поражает дикаря превосходство земледельческой жизни. Укажу на речь одного североамериканского вождя, которую нам передаёт Либих в своих «Chemische Briefe» (по Кревуру): «Seht ihr nicht dass die Weissen von Körnern, wir aber von Fleisch leben? dass das Fleisch mehr als 30 Monden braucht, um heran zu wachsen, und oft selten ist? dass jedes der wunderbaren Körner, die sie in die Erde streuen, ihnen mehr als hundertfältig zurückgiebt? dass das Fleisch vier Beine hat zum Fortlaufen und wir nur zwei, um es zu haschen? dass die Körner, da wo die weissen Menschen sie hinsäen, bleiben und wachsen; dass der Winter, der für uns die Zeit der mühsamen Jagden, ihnen die Zeit der Ruhe ist? Darum haben sie so viele Kinder und leben länger als wir. Ich sage also Jedem, der mich hört, bevor die Bäume über unsern Hütten vor Alter werden abgestorben sein und die Ahornbäume des Thales aufhören uns Zucker zu geben, wird das Geschlecht der kleinen Kornsäer das Geschlecht der Fleischesser vertilgt haben, wofern diese Jäger sich nicht entschliessen zu säen!»
140
Lobeck, Aglaophamus (1829) стр. 247: Aristophanes quum Orpheum praedicat, quod (τελετάς ύμίν χατέϐειξε φόνων τ΄άπέχεσθαι) ambigue locutus est (как известно, в орфическом учении существовала тенденция – отклонить своих последователей от всякой животной пищи); clarius Horatius, A. P. 391: «silvestres homines caedibus et victu foedo deterruit Orpheus» anthropophagorum immanitatem designat.
141
Limburg Brouwer, в указ. соч. II, 550: … on a effectivement cherché quelquefois à, excuser ses fautes en alléguant l’exemple des habitants de l’Olympe, ce qui alla même si loin que la societé et ses institutions s’en ressentirent (!), chez les Samiens, par exemple, qui à ce qu’on racontait, permettoient à leurs filles d’anticiper sur la solennité qui alloit les unir à leurs fiancés, en accordant à ceux-ci les droits auxquels cette solennité seule pouvoit les autoriser, et cela par le seul motif que Jupiter et Junon en avoient donné l’exemple (!). Taм же. 1: Le même exemple fut allégué par un sophiste a la cour de Ptolémée, pour excuser le commerce Incestueux do ce prince avec su soeur Arsinoé (Eustath. ad H. p. 1090 in.).