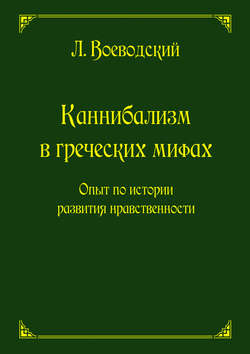Читать книгу Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности - Л. Ф. Воеводский - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности
II. Грубость нравов, отразившаяся в греческих мифах
§ 11. Древнейшие греческие идеалы. Гермес
ОглавлениеAlles was je geschieht
Heutiges Тадеs,
Trauriger Nachklang ist’s
Herrlicher Ahnherrn-Tage;
Nicht vergleicht sich dein Erzählen
Dem, wan liebliche Lüge,
Glanbhafter als Wahrheit,
Von dem Sohne sang der Maja.
Göthe.
Если мы взглянем только на более выдающиеся фигуры греческой мифологии с целью проследить их нравственное значение, то нам бросится в глаза прежде всего Гермес, с именем которого связано такое множество вполне безнравственных, по-видимому, сказаний, что мысль о случайности этого странного явления должна уже на первых порах казаться лишённой всякого основания. Действительно, стоит прочесть любой перечень «знаменитых подвигов» этого бога, чтобы убедиться, что все рассказы о нём имели некогда чрезвычайно важное этическое значение.[142] Лучшим же тому доказательством служит то обстоятельство, что все его похождения носят особый характеристический отпечаток, придающий им вид идеальности. Этот замечательный характер сказаний о Гермесе особенно наглядно выказывает полнейшую несостоятельность того направления, которое, видя в мифах очеловечивание понятий совсем индифферентных в нравственном отношении, считает нравственный колорит мифов явлением только случайным, вытекающим просто из этого очеловечивания.[143] Непонятно только, каким образом могли так долго устоять взгляды, не выдерживающие проверки даже на самых крупных и столь выдающихся данных.
Подвигами, за которые прославляется Гермес, являются ложь, обман, воровство, – все качества, в которых этот бог достигает своей ловкостью и неустрашимостью такого совершенства, что вполне может считаться лучшим их представителем или просто их олицетворением. Тесная связь, которая существует между этими качествами в психологическом отношении, поражает нас и в мифах о Гермесе. Уже этого одного обстоятельства достаточно, чтобы убедить нас в бытовом значении этого божества в Греции, каково бы ни было происхождение и первоначальное значение его. Но, кроме того, существует множество данных, которые доказывают самым убедительным образом, что вышеуказанные качества Гермеса приписывались ему даже вполне сознательно. Нечего говорить о том, что в исторические времена Греции нравственная или, пожалуй, безнравственная стихия в Гермесе была ясно сознаваема. При более развитых нравственных понятиях он или прямо был за то порицаем, или же, напротив, его поступкам был придаваем юмористический колорит, сглаживающий неблаговидность их. В последнем отношении чрезвычайно характеристично следующее нелепое примечание схолиаста к одному месту Илиады: «Мэя родила (Зевсу) Гермеса, имевшего наклонность к краже (к воровству), потому что и (отец его) Зевс, совокупляясь с Мэей, обкрадывал (этим самим) Геру (свою законную супругу)». Как бы в доказательство позднего происхождения этого толкования, основанного на очень поздних понятиях о святости брака, мы читаем дальше: «Однажды, когда мать его (то есть Гермеса) купалась вместе со своими сёстрами (Плиадами), он тайком утащил их платья. Оставаясь нагими, они не знали, что делать. Тогда Гермес, хохотавший над этим, возвратил им платья».[144] Свидетельством более древнего времени о сознаваемости нравственного значения Гермеса может служить, например, следующий миф. Семейство Эвмила не почитает Гермеса, Афины и Артемиды. Агрон, сын Эвмила, говорит между прочим, что Гермеса он уважать не станет, потому что Гермес – вор. За то три обиженные божества мстят безбожному семейству тем, что превращают всех членов его в птиц.[145]
Этот миф мог принять такую форму, конечно, только в то время, когда некоторые личности стали уже сомневаться в позволительности, или по крайней мере в похвальности тех поступков, представителем которых являлся Гермес. Чтобы убедиться, однако, в том, что он и не в слишком отдалённые времена пользовался вполне безусловным уважением именно за те качества, за которые Агрон порицает его в указанном сказании, для этого стоит только взглянуть на так называемый гомеровский гимн этому божеству. В этом гимне рождение Гермеса, сына Зевса и Мэи, воспевается следующим образом[146]: «Мэя родила сына изворотливого, хитрого[147], грабителя, который умеет уводить быков и заведывает снами[148], который видит даже среди ночной темноты[149] и выжидает добычу у дверей. Ему-то суждено было совершить знаменитые дела среди бессмертных богов: родившись с утренней зарей, он к средине дня играл уже на кифаре, а под вечер украл коров у далеко разящего Аполлона».[150]
Подобных примеров, выказывающих то уважение, которым пользовался Гермес именно как божество лжи, обмана и воровства, можно привести множество, так что нет возможности сомневаться в том, что все эти качества в известное время не только не считались у греков пороками, но напротив, геройскими подвигами, достойными воспевания. Та мысль, по которой подобные поступки представляют в мифах элемент, лишённый нравственного значения или даже противонравственный (sittliche Verstosse), оказывается совершенно несостоятельной. Действительно, если мы только вдумаемся, какой громадный подвиг на пути нравственного развития представляло собою ловкое воровство, требующее немало нравственной подготовки, преимущественно смелости; если мы подумаем как быстро даже на поприще воровства могло развиться желание превзойти друг друга утончённостью приёмов, придающее вороватости характер несомненно нравственного стремления, то есть «любви к искусству» уже никак не в ироническом смысле этого слова; если мы, наконец, согласимся признать, что даже и поныне в разбойничьей жизни можно отыскать множество идеальных и чисто нравственных сторон, которые, между прочим, столь удачно воспроизведены в «Разбойниках» Шиллера; словом, если мы оставим в стороне все предвзятые теории о вечной неизменяемости нравственного идеала и проследим развитие нравственности хоть на некоторых фактических данных человеческой жизни, то окажется, что нравственность, как мы её понимаем в настоящее время, есть в сущности не что иное как только дальнейшее усовершенствование на том же пути идеального стремления, на котором ложь и воровство представляются нам на первый взгляд столь неблаговидными. Окажется, что если воровство и разбой считались геройством за то, что человек подвергался, для достижения известной похвальной цели, разным опасностям и рисковал иногда даже жизнью, то и теперешняя нравственность есть не что иное как только утончённое или более ухищрённое геройство, которое требует не менее громадных усилий, много труда и лишений, и вообще чрезвычайного напряжения умственных или физических сил для достижения того, что в настоящее время считается похвальным. Но и в настоящее время высшей целью наших стремлений является преимущественно достижение своего собственного благосостояния (причём, конечно, принимаются ещё в расчёт и наши понятия о загробной жизни): грабёж и разбой перестали считаться средствами, позволительными для достижения этой цели только потому, что для большинства людей дикая и бурная жизнь лишилась прежней привлекательности. Таким образом, мнение, что воровство никогда не могло быть сознаваемо как дело похвальное, окажется плодом лишь крайнего спиритуализма. Напротив, всякий здравомыслящий наблюдатель действительной жизни согласится, что даже до сих пор в нашем обществе удержалось немало следов того периода нравственного развития, идеалом которого служил у греков Гермес. Следует, наконец, вспомнить, что ведь до сих пор нами ещё не вполне пережит век рыцарства, в котором подобное идеальное значение имели месть, дуэль, самоубийство и другие «преступления», порицаемые интуитивными моралистами не менее, чем ложь и воровство. Признавая всё это, мы будем в состоянии понять настоящее значение греческого Гермеса. Тогда возможно будет убедиться, что и позднейшее, известное нам в исторические времена систематическое приучение спартанцев к воровству имело в своё время значение настоящей школы нравственности.
Понятно, что превратные понятия о развитии нравственности и о религиозном значении древних божеств не могли не повлиять и на толкование гомеровского гимна, из которого мы приводили отрывок. Посмотрим, что говорит об этом гимне, например, Бернгарди в своей «Истории греческой литературы». Называя его «светским» (в противоположность духовному), он описывает его следующим образом: «В начале, – говорит он, – передаётся со смелым юмором (?) сказка (Fabel) о младенчестве этого бога (Гермеса), об его искусстве воровать, которое в нём проявляется в соединении с хитростью и бойкостью (Unbefangenheit) уже в первые дни его существования; затем описывается его похождение с Аполлоном и, наконец, остроумный поэт придаёт этим шуткам (?!) тонкий оборот, представляя примирение этих богов и прославляя блеск Аполлонова наряда, семиструнную лиру, изобретённую в честь его, и дельфийский оракул. Несмотря на множество пропусков, искажений и позднейших вставок в дурно сохранившемся тексте этого гимна, мы удивляемся остроумию и поэтическому таланту, смелости и юмору (Keckheit und muthwillige Laune), который с удивительным тактом, вращаясь в низших кругах чувственности, осмысляет их и придаёт им нечто привлекательное. При этом мы любуемся весёлым умом поэта, постигающего могущественное значение музыки и обманчивую игру божественных предсказаний, причём не обходится без иронического намёка. Эта поэма, исполненная с такой свободой, привлекает нас также и потому, что она является древнейшим опытом остроумного обращения с мифологией и даже представляет содержание для божественной комедии (Gotterkomedie); мимоходом с богом связывается призвание певца и слава, и тайна утончённого пения (des feinen Liedes). Язык нам нравится своею легкостью и свежестью; зато чтение затрудняется большим количеством редких и тёмных выражений».[151] Читая такой отзыв, нельзя не удивляться необыкновенным способностям автора этого гимна. Если мы только вдумаемся в слова Бернгарди, то окажется, что этот автор – просто гений, в самом непостижимом смысле этого слова. При близком знакомстве с «кругами низшей чувственности», мы находим в нём умение придать им духовный интерес (geistigen Reiz), то есть такое осмысление этой чувственности, какое вряд ли найдём в самом утончённом эпикуреизме. Тонкость же его намёков почти неуловима. Затем, его обращение с предметами народного верования окончательно гениально. Он до того успел выработать вполне независимый взгляд на религиозные воззрения своей среды, что ничем не проявляет того враждебного, полемизирующего настроения, которое заметно у всех древнейших философов, относившихся к предметам верования критически. Но что более всего достойно нашего удивления, так это его юмор, тонкость которого превышает всё мне известное даже у Аристофана. Замечательно, как много уступает ему в этом отношении даровитый Лукиан, живший в конце II столетия после Рожд. Хр. и снискавший за своё иронически-юмористическое отношение к мифологии славу фривольного писателя. Насколько ирония нашего гимнографа должна быть утончённее приёмов Лукиана, это всего лучше вытекает из сравнения этого гимна с одним из «разговоров богов» Лукиана, где мы находим тот же сюжет[152]: непонятно только, как Лукиан мог писать этот разговор, если он знал, что на этом поприще уже существует столь образцовое произведение. Если, наконец, прибавить к тому некоторые качества гимна, о которых не упоминает Бернгарди, преимущественно, если вспомним, как удачно придан гимну торжественный тон, так сильно напоминающий религиозное вдохновение Гесиода, то невольно спрашиваешь: когда же жил этот гениальный писатель? К какой эпохе греческого развития отнести его, и кто он? Должно быть, это какая-нибудь знаменитость, хотя, с другой стороны, и недоумеваешь, кому же из известных писателей приписать это гениальное произведение. Но тут-то и замечательно, что имя этого писателя неизвестно, и даже сам Бернгарди нам его не указывает, несмотря на своё умение составить себе столь определённое понятие о произведении, которое, как он сам говорит, дошло до нас в чрезвычайно искажённом виде. Действительно, испорченность текста необычайна. «Толкователи этого гимна, – говорит Баумейстер, – согласны все без исключения в том, что из всей древности не дошло до нас почти ни одного стихотворения в столь искажённом виде».[153] Маттиэ утверждает даже, что едва ли можно сомневаться в том, что лишь половина или, может быть, даже только треть гимна подлинна, всё же прочее вставлено грамматиками и книгопродавцами.[154] Сам Баумейстер, который отстаивает единство всего гимна и допускает лишь менее значительные вставки, признается, что этой цели можно достигнуть только одним путём, именно допуская юмористическое толкование; тогда, по его мнению, мы найдём естественным, почему в этом гимне, подобно как в комедии, «нет строгой связи содержания», и убедимся, что поэт «иногда нарочно обманывает наши ожидания, часто соединяет различное и противоречивое, и, наконец, смешивает серьёзное с шутливым».[155] Итак, мы видим, на каком основании в этом гимне отыскивают юмор. Оказывается, что гениальность гимнопевца, которому Бернгарди приписывает столь необыкновенные качества, опирается на очень шаткое основание.
Но мы не будем вдаваться в вопрос о том, что в нашем гимне было его первоначальным составом, и не представляет ли он, в дошедшей до нас форме, обработку, может быть, даже нескольких гимнов.[156] Для нас важно то, что приведённый нами отрывок не может быть позднейшей вставкой, чего никто ещё до сих пор и не утверждал. Поэтому мы посмотрим, насколько верно юмористическое понимание именно этого места, которое, заметим мимоходом, приводится преимущественно в оправдание этого толкования. Я не буду настаивать на мнении, что приведённый мною отрывок составлял некогда часть гимна, имевшего богослужебное значение.[157] Но вместе с тем я не вижу, однако, возможности отрицать торжественность тона в предшествующем ему обращении к Музе. Если не считать наперёд воровство делом безнравственным, то окажется, что не только в приведённом отрывке, но во всём даже гимне нет ничего, что противоречило бы этому торжественному вступлению, характеризующему наш отрывок, как произведение серьёзное, вроде Гесиодовой теогонии. Иное дело, если бы за таким вступлением последовало, например, описание «войны лягушек с мышами» или нечто подобное; тогда контраст возвышенных приёмов с ничтожностью сюжета служил бы к усилению юмористического тона, но в данном ведь случае содержание религиозное.
В рассматриваемом гимне я нигде не открыл что-нибудь такое, что указывало бы на насмешливое, шутливое обращение с Гермесом, одним из наиболее почитаемых божеств Греции. Грот, в «Истории Греции», видит непочтительное обращение в следующих словах гимна: «Гермес мало делает добра (людям); он пользуется темнотою ночи, чтобы обманывать непомерно народы смертных людей».[158] Но видя в этих словах необычайную вольность в обращении с божеством, Грот очевидно ошибается. В том же гимне описывается, как Аполлон, чуть ли не более всех уважаемое божество Греции, обещает Гермесу свою дружбу, уверяя его, «что никто из бессмертных не будет ему милее, ни Бог, ни человек из Зевсова рода».[159] Поэтому в словах: «он мало делает добра (пользы)», или нельзя видеть непочтительность, или следует по крайней мере признать эти стихи вставленными; но в последнем случае они уже не могут служить подтверждением предположения о юмористическом тоне нашего отрывка. Следует, впрочем, заметить, что древнее божество, для того, чтобы быть уважаемым, вовсе не нуждалось в качествах христианской добродетели, и что, напротив, эта последняя могла бы лишь повредить ему в глазах тогдашнего общества.
В доказательство приведу молитву, которая произносилась савийцами в храме Сатурна во время жертвоприношения этому божеству. Жертвой был старый бык с выломанными зубами. Вот эта молитва: «Да будешь ты свят, о боже, которому врождённо зло как качество; который не делает добра, будучи сам несчастьем и противоположностью счастья; который, прикасаясь с прекрасным, делает его некрасивым и, взглянув только на счастливого, делает его несчастным. Мы приносим тебе жертву, похожую на тебя. Поэтому прими её от нас благосклонно и отврати от нас все твои бедствия, и бедствия, происходящие от твоих коварных и обманчивых демонов, которые придумывают зло для каждого».[160] Подобного содержания молитва тех же савийцев к Марсу: «О, ты, злой, непостоянный, острый, огненный бог! Ты любишь возмущение, убийство, разрушение, пожар и кровопролитие. Мы тебе приносим жертву, похожую на тебя (то есть человека!) Прими её благосклонно и отврати от нас бедствия твои и твоих демонов».[161] В сочинении Хвольсона «Савийцы», откуда заимствованы эти молитвы, мы находим несколько сближений с греческими примерами, из которых укажу на следующее место Илиады, где прогневанный Зевс говорит раненному под Троей Марсу:
«Ты, ненавистнейший мне меж богов, населяющих небо!
Распря единая, брань и убийство тебе лишь приятны!
Матери дух у тебя, необузданный, вечно строптивый,
Геры, которую сам я с трудом укрощаю словами!
Ты и теперь, как я мню, по её же внушениям страждешь!
Но тебя я страдающим долее видеть не в силах:
Отрасль моя ты, и матерь тебя от меня породила.
Если б от бога другого родился ты, столько злотворный,
Был бы уже ты давно преисподнее всех Уранидов!»[162].
Тут мы находим все те эпитеты, которые видели в савийской молитве. Что они высказаны Зевсом в гневе, – это не придаёт им ещё порицательного значения в этическом смысле; так, например, Ахилл в гневе называет Агамемнона «знаменитейшим» и вслед за тем «самым жадным из всех»[163], причём можно даже сомневаться, считалась ли жадность пороком, так как между прочим в Ведах мы находим такую молитву: «сделай нас жадными к сокровищам»[164]. Подобным образом в другом месте Афина называет Марса «безумным» и «не знающим никаких законов».[165] Если бы подобные выражения считались действительно обидными, то поэт вряд ли дозволил бы себе приводить их. Напротив, известно, что на низкой ступени развития народ уважает необдуманность и все порывы страсти, особенно гнева, который с таким воодушевлением воспевается в Илиаде. В одном из священных ведических гимнов, обращённом к Марутам, эти последние называются героями, «гневными, как змеи».[166] Так же точно мы знаем, что неуважение к законам представлялось достоинством, которым, конечно, не всякий мог обладать. Как на лучший пример в этом отношении можно указать на описание Циклопа в Одиссее, который гордится тем, что ему некого бояться: ни Зевса, ни прочих бессмертных богов.[167]
Что же после этого представляет непочтительного наш гимн к Гермесу? Гермес является хитрым. Но подобным ведь образом и в священных индийских гимнах восхваляется бог Индра за свою хитрость.[168] Известно также, что в русских сказках хитрость представляется именно мудростью. В греческом гимне Гермес является не только лгуном и вором, но чуть ли не разбойником. Точно так же и в ведических гимнах божество сравнивается, например, с «храбрым» разбойником – «грабителем на дорогах»: «Да будем выжимать напиток из сома ему (Индре), этому богатому делами быку, этому истинно сильному быку, который, подкрадываясь подобно герою-грабителю на дороге, идёт, разделяя богатство неправедного.[169] О. Ф. Миллер в своём «Илье Муромце» замечает, что «в известное время разбойничество не налагало на мужа пятна; это был только особый вид воинственной деятельности, особое средство к добыче, или к тому, чтобы поразмять плечо».[170] «Не говоря уже о сербском гайдучестве, народное сочувствие к которому объясняется противотурецким его назначением, можно указать и на то превознесение народом разбойничества, которое выразилось, например, в английских балладах о Робин Гуде, да и у нас породило особый, уже к позднейшему времени относящийся, ряд былин о разбоях».[171]
Итак, эпитеты Гермеса не представляют ничего особенно странного. Вообще не следует забывать, сколь многие вещи, кажущиеся на наш взгляд недостойными даже простого человека, воспевались когда-то как качества божеств, считаясь, очевидно, в высшей степени похвальными. Так, например, в гомеровском гимне к Аполлону, в гимне, серьёзное значение которого признается всеми, певец, как бы недоумевая, с какой похвалы начать свою песнь, восклицает: «Как же мне воспевать тебя, достойного похвалы во всех отношениях? Стану ли воспевать тебя в кругу женихов и в любовных похождениях», и затем, перечисляя эти последние, он упоминает и о несчастном Левкиппе, которого Аполлон, по-видимому, убивает, полюбив его жену.[172] В другом гимне, где поэт обращается с молитвой к Дионису, он называет этого бога γυναιμανής, что означает «любящий женщин до безумия» (weibertoll).[173] Очевидно, что все подобные обращения принимались серьёзно. Поэтому, если, например, Зевс называется «жесточайшим»[174], то и это не следует смягчать, но вместе с тем нельзя и видеть в этом обидное обращение. В доказательство последнего мнения я ссылаюсь на то место Илиады, где Агамемнон порицает Менелая за то, что тот хотел пощадить в сражении Адраста.
«Слабый душой Менелай, ко троянцам ли ныне ты столько
Жалостлив? Дело прекрасное сделали эти троянцы
В доме твоём? Чтоб никто не избег от погибели чёрной
И от нашей руки! Ни младенец, которого матерь
Носит в утробе своей, чтоб и он не избег! Да погибнут
В Трое живущие все и, лишённые гроба, исчезнут!»
Так говорящий герой отвратил помышление брата,
Правду ему говоря.[175]
Но особенно следует быть осторожным в тех случаях, когда богам придаются некоторые эпитеты, кажущиеся нам неэстетичными. Так, например, если бы мы случайно не знали, что слово βοώπις, «с бычачьими глазами», присоединяется к именам женщин, считавшихся прелестными, между прочим, и к имени богини Геры, то мы бы, наверно, подумали, что это слово означает брань или по крайней мере насмешку. Подобными примерами неэстетичных образов изобилуют индийские священные гимны: особенно в них замечательны в этом отношении те места, где воспевается, как брюхо упивающегося сомой Индры раздувается от этого напитка и принимает размеры моря; причём, заметим мимоходом, не лишено для нас значения и то обстоятельство, что сомой поят божество иногда, по-видимому, с тем, чтобы оно стало расточительнее, то есть, более щедрой рукой уделяло молящемуся от своих богатств.[176]
Но возвратимся опять к качествам, приписываемым Гермесу. Обман и воровство суть преимущественно те качества, которые, как увидим ниже, оставили и в исторические времена Греции особенно заметные следы. Я полагаю, что именно вследствие этого обстоятельства они и отразились с такой ясностью в характере народного божества Гермеса. Не менее тесно связаны они и с другим греческим героем или божеством, черты которого успели, однако, более сгладиться вследствие того, что он был представитель древних нравов в ещё более грубом и вместе с тем первобытном виде. Но прежде чем оставить Гермеса, я позволю себе обратить ещё раз внимание читателя на приведённые мною в виде эпиграфа слова Гёте, из которых видно, что этот истинно гениальный поэт далеко лучше всех филологов понимал глубокое этическое значение сказаний о подвигах Гермеса. Слова эти поёт хор греческих дев во второй части «Фауста», в 3 акте, желая выставить превосходство древней поэзии в сравнении с новой:
«Это ты называешь чудом, дочь Крита? Ты, вероятно, никогда не прислушивалась к поучительным рассказам поэта. Ты, должно быть, никогда не слыхала богатых, божественно-геройских, завещанных предками сказаний Ионии, сказаний Эллады? Всё, что совершается в настоящие дни, всё это – жалкий лишь отголосок чудесных, старинных времён. Твоему рассказу не сравняться с прелестным сказанием о сыне Мэи, с этим вымыслом, который правдоподобнее истины».[177]
142
Относительно Гермеса как божества лжи, обмана и воровства, см. например, Jacobi. Handwörterb. d. griech. u. röm. Mythol стр. 436–439, где собран обильный, хотя и далеко не полный материал. В этом же отношении можно сравнить ещё Nägelsbach, Hom. Theol. 2‑е издание стр. 32, и Welcker, Griech. Gölterlehre, I, стр. 346 слл.
143
Считаю не лишним указать при этом случае на мнение Гана, который (мнимое) отсутствие нравственного принципа в мифах объясняет тем обстоятельством, что они сложились будто ещё до пробуждения (!) нравственности (das spaler erwachende sittliche Bewusstsein). Hahn, Sagwiss. Stud. стр. 81: Wenn wir nun den Urmenschen als in dem Zustande geistiger Kindheit verharrend annehmen, so können wir ihm auch ebenso wenig Schamgefühl zuschreiben, wie dem Thiere und dem Kinde, und wenn er in diesem Zustande zur Verkörperung der Naturverläufe getrieben wurde, um sie sich zur Vorstellung zu bringen, so konnte auch das ihm mangelnde sittliche Bewusstsein nicht massgebend für sein Verfahren werden. Er schrickt also vor keiner sittlichen Ungeheuerlichkeit, die seine Götter begehen, zurück, wenn dieselbe nur die Vorstellung von dem entsprechenden Naturverlauf erweckt, die er zum Ausdruck zu bringen getrieben wird… Wir halten keinen anderen Weg für denkbar (I), auf dem das Dasein dieser sittlichen Verstösse (?) in der Sage sich auf naturgemässe Weise erklären liesse, denn sobald man ihre Schöpfer mit sittlichem Bewusstsein ausstattet, werden sie zu einem unerklärlichen Räthsel». Ган, очевидно, придаёт слову «нравственность» слишком тесное значение, вполне, впрочем, соответствующее и его тесному пониманию слова «миф».
144
Schol. Iliad. XXIV, 24.
145
Antonin. Liberal, XV (Meropis).
146
Hymn. hom. in Merc. 13.
147
Здесь никак не следовало бы понимать в смысле нашего «безбожный» (gottlos, frevelhaft).
148
В ст. 14 нельзя переводить: «который наводит (обманчивые) сны». Ср. § 7.
149
Баумейстер в своём издании (Hymn. hom.1860 г., стр. 189) даёт к этому месту перевод Маттиэ (Matthia): qui noctem speculatur, то есть, νυχτός όπτήρα, вместе со ссылкой на Тас. Аnn. II, 40: speculati noctem incustoditam. Но всего естественнее переводить: «зрящий». Относительно ночной деятельности Гермеса, ср. Eur. lphig. Taur. 1026. Баумейстер переводит удачно: qui fores observat egredientes spoliaturus, сравнивая это слово со словом разбойник (Wegelagerer).
150
Последние стихи (17 и 18) у Баумейстера стоят между скобками. Мы можем, однако, воспользоваться ими, так как они в сжатом виде удачно передают содержание самого гимна.
151
Bernhardy, Grundriss der griech. Litt. 2‑я часть, I, стр. 223 гл. (3‑е изд 1867 г.).
152
Lucian. Deor. dial. 7. (2‑е изд. Дидо, стр. 51).
153
A. Baumeister, Hymni homerici (1868), стр. 182.
154
См. там же.
155
Там же, стр. 184 сл. Приведу всё это интересное место, которое начинается сравнением нашего гимна с двумя гомеровскими гимнами к Аполлону: «Jam de indole atque compositione totius hymni quaerentem fugere non potest, magno hoc carmen hiatu distare ab iis, quae sunt in Apollinem; illic enim res peragitur cum summa gravitate et cum reverentia deo augustissimo ac potentissime debita; hic iocus umabilis regnat cum petulantia tributa puero lepidissimo et vixdum divini numinis participi (I). Hoc si consideres, consentaneum est, opinor, in illis carminibus unam actionem certis quibusdam finibus circumscriptam per actus suos rite deduci et quasi orbem rerum effici, hic autem, ut in comoedia, laxioribus vinculis res contineri, aliquotics consulto exspectationem falli, non raro diversa et contraria inter se componi, denique iocum serio misceri. Atque hanc proprietatem carminis nisi prospexeris, fieri nunquum poterit, quin iniquissimum ac perversissimum iudicium de poeta feras; qui quidem tum cum maxime rem lepidam lepide agit, insulsus tidi videatur necesse sit; ubi oratio leniter fluit, increpabis languidam, sin argute loquatur, stomachaberis neque ferendum putabis aucupium verborum, denique justum ordinem si forte deseruerit, nunquam ei condonabis. Verum enimvero etiamsi concessero talia interdum poetam peccavisse (всё-таки!), tamen non efficies, ut indigno Homeridae patrocinari videar.
156
В московской рукописи (ныне лейденской) заглавие: ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ (то есть Гомера) ΥΜΝΟΙ ΕΙΣ ΕΡΜΗΝ, в прочих же только: ΕΙΣ ΕΡΜΗΝ
157
Hahn, Sagw. Stud. стр. 96: Ihr Wesen [то есть, гомеровских гимнов] ist mehr episch als liturgisch und der spielende, ja ironische [I] (Hymnus in Hermem) Geist einiger derselben macht es uns fraglich, ob diese überhaupt zu liturgischen Zwecken gedichtet wurden. Как будто они дошли до нас в первоначальной форме!
158
Изд. Бayм., ст. 577 слл. Cм. Grote, I, cтp, 52: But Hermes (concludes the hymnographer, with frankness unusual in speaking of a god) does very little good и т. д.
159
Там же, ст. 523 слл.
160
Chwolson, Ssabier und der Ssabismus, II, (1856) стр. 384 сл.
161
Там же, II, стр. 389 (Dimeschqi I, 10, 4).
162
Илиада, V, 890, в переводе Гнедича. См. Chwolson, Ssabier, II, стр. 678, прим. 54. Укажу при этом случае на место в Euseb. Praep. ev. IV, 20, в конце и 21 в начале, где говорится о греческом жертвоприношении «злому демону».
163
Iliad. I, 122.
164
Rigveda, I, 9, 6, в немецком переводе Бенфея: Schön stachle du uns, Indra, auf; mach uns nach Reichthum eifervoll, schatzreichert! Почти все дальнейшие ссылки на Ригведу сделаны мною по переводу Бенфея, помещённому в журнале Orient und Occident.
165
Iliad. V, 761.
166
Rigv. I, 64, 9.
167
Odyss. IX, 273 слл. и в друг. местах.
168
Например, Rigv., I, 51, 5: «Хитростью ты разогнал хитрых».
169
Там же, I, 103, 5.
170
О. Миллер, «Сравнительно-критические наблюдения над слоевым составом народного русского эпоса. Илья Муромец и богатырство киевское.» (С.-Петербург, 1869), стр. 82.
171
Там же, стр. 290.
172
Hymn. hom. ed. Baumeister, II, 29. Место, в котором описывалась участь Левкиппа, дошло до нас только в отрывочных фразах. В последней строке речь идет, по-видимому, о сражении пешего Аполлона со стоящим на колеснице Левкиппом (ср., впрочем, Baumeister к этому месту, стр. 149). Насчёт смерти Левкиппа сравни Paus. VIII, 20, 4.
173
Там же, XXXIV, 17; ср. Limb. Brouwer, Civilisation etc., II, 558: Dans un hymne grave et sérieux, un poete, qui demande une faveur de Bacchus, n’hésite pas de donner à ce dieu un nom, qu’un homme prendroit sans doute pour une grosso injure.
174
Iliad. IV, 25. Этот эпитет тем важнее, что не оказывается достаточно мотивированным. О чрезвычайно характеристичном возражении Зевса, где тот изображает свою жену каннибалкой, мы будем говорить в другом месте.
175
Там же, VI, 55 слл., в переводе Гнедича.
176
Rigv. I, 4, 2 = Sômav. II, 438: «ибо опьянение богача щедро быками (собств. дарить быков)». Ср. Rigv. I, 8, 7; 30, 3; 404, 9.
177
Goethe’s Sämmtliche Werke in vierzig Bänden, XII, стр. 209 (изд. Котта, 1840). Cp. H. Düntser, Goethe’s Faust, 2‑е изд. (1857), стр. 672 и след.