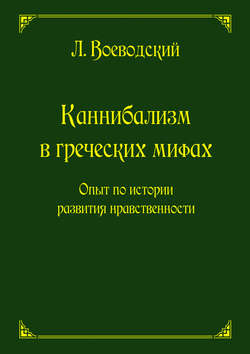Читать книгу Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности - Л. Ф. Воеводский - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности
I. Этическое значение мифов
§ 6. Спиритуалистические взгляды на мифы
ОглавлениеWie ungern hören wir doch alle zu und wie ungläubig,
wenn ein aufdringlicher Scharfsinn den feinsten Bau
unsern Innern zu zerglicher sucht, und wie wenig imponirt
uns die gelassene Zuversicht, die von allgemeinen
Gesichtspuncten aus dieser bestimmten Mischung unserer
Anglagen ihre nothwendige Entwickelung voraussagen möchtel.
Lotse.
Давно уже Отфрид Мюллер обратил внимание на мифы как на прямое выражение миросозерцания младенческого ума народов. Отвергая толкование символическое и аллегорическое, он придавал мифам особое, научное значение и впервые указал на их важность для истории развития человеческого духа, науки, о которой, как он сам справедливо замечает, не существовало тогда ещё почти ни малейшего понятия.[32] С чрезвычайной последовательностью отстаивал он мнение, что в мифах народ видел чистую истину, без всякой примеси поэтических прикрас, без символизма и аллегорий.[33] Даже самые изменения, которым подвергались мифы, он остроумно объяснял тем обстоятельством, что именно благодаря непоколебимости веры в истинность мифов должны были со временем, при посредстве различных комбинаций, основанных на новых понятиях, явиться толкования этих мифов, принимаемые за очевидную истину и образующие, таким образом, новые мифы.[34] Из этого взгляда вытекает, что форма мифа, обыкновенно отделённая от его внутреннего содержания, есть не что иное как только существенная часть самого содержания. Поэтому также Мюллер и придаёт особенно важное значение тем мифическим рассказам, в которых богам приписываются непристойные и унизительные, по нашим понятиям, поступки и качества, и называет направление, лишающее эту «безнравственную форму» всякого значения, просто нелепым.[35]
Однако же несмотря на то, что Отфрид Мюллер, не остался без последователей[36], всё-таки дли исследования нравственного развития древнейшей Греции все его указания до сих пор остались, насколько мне известно, почти бесплодными. Причиной этого странного явления служат, по-видимому, два обстоятельства. С одной стороны, большая часть классических филологов, не успев усвоить себе выработанных наукой понятий о постепенном развитии вообще человечества, не могла ужиться и с генетическим методом новейшей психологии. В большинстве случаев этим только можно объяснить себе то странное обстоятельство, что многие всё ещё стараются разглядеть в самых началах человеческого развития особенно возвышенные воззрения.[37] С другой стороны, всё ещё существует направление, сознательно лишающее себя всякой научной почвы, так как оно выводит всю нравственную жизнь человека от сверхъестественного начала. К сожалению, в классической филологии, при исследовании нравов греческого народа, это направление с давних пор играет замечательную роль. Оно тянется от средних веков вплоть до самого новейшего времени. Неудивительно, если мы находим в средние века распространённым такое воззрение, что греческая религия, подобно всем прочим, представляет не что иное как только отпадение от откровенной религии евреев.[38] Последствием его было, как известно, то полезное направление учёных, по которому они начали отыскивать и в греческой жизни хорошие стороны, считая их следами первобытного откровения.[39] Но уже трудно понять, почему даже и в новейшее время проглядывает подобный взгляд, и притом у людей, вполне заслуживших имя учёных, как, например, у Нэгельсбаха[40], или ещё ярче у Глэдстона, который не только признает несомненным происхождение греческой религии от еврейского откровения, но даже старается восстановить традиционную связь между истинами этого откровения и греческими религиозными учениями.[41] Были, впрочем, даже и такие, которые, не довольствуясь более влиянием первобытного откровения на развитие Греции, сочли необходимым доказывать влияние христианства (sic) на воззрения греческих философов и поэтов, живших много столетий до Иисуса Христа.[42] Менее вреден взгляд тех учёных, которые, хотя и признают теорию откровения, но подвергают её особому мистическому толкованию, а именно в том смысле, что откровение будто бы являлось самостоятельно не у одних только евреев, но и у других народов, преимущественно же у римлян и греков.[43]
Таким образом, эти учёные, выводя нравственность первобытной Греции из столь возвышенного начала, как божественное откровение, уже в силу самой последовательности, не могли придавать безнравственным сторонам жизни греческих богов значения при составлении выводов о первобытной нравственности самих греков.[44] Очевидно, что подобное направление не могло не помешать трезвому исследованию развития нравственности в Греции.
Напротив, другие учёные, не признающие никакой связи между возвышенными откровенными истинами Священного Писания и развитием греческой нравственности, делают противоположную ошибку, отрицая всякую аналогию между евреями и греками, даже и там, где против очевидности сходства известных взглядов и понятий они не могут привести ни одного аргумента.[45] Эти учёные всякое сближение языческой религии с еврейским учением, среди которого впоследствии появилось и христианство, считают чем-то вроде святотатства.[46]
Учёных, которые рассматривали бы развитие греческого народа без всяких предвзятых теорий относительно «сверхъестественного происхождения религиозности» было очень немного.[47]
При господстве подобных односторонних взглядов неудивительно и то невнимание к смыслу и значению мифов, о котором уже упомянуто выше. Здравое и чисто научное направление Куна[48], Лацаруса и Штейнталя[49], Альбрехта Вебера[50], Герланда и др. ещё не успело проявить своё влияние на классическую науку вообще[51] и на понимание греческих мифов в частности. Вследствие этого, до последнего времени тянется то символическое, то аллегорическое, или, что ещё хуже, даже просто поэтическое толкование мифов. Лучшим примером в последнем отношении служить Преллер, который в мифах видит только поэтическую передачу фактов и убеждений, без притязания на веру в истинность их содержания.[52] В германской филологии чуть ли не подобного взгляда на мифы придерживается Зимрок, который видит в них истину, облечённую в поэтическую форму, причём, однако же, он признает, что мифы когда-то служили предметом верования, не видевшего в них поэзии.[53]
Я представил здесь в кратких чертах главные причины, препятствовавшие правильному исследованию нравственности древнейшей Греции и особенно препятствовавшие использованию мифов как одного из лучших пособий для этой последней. Но возвратимся к взгляду Отфрида Мюллера на мифы.
32
K. О. Müller, Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie (1825), стр. 121: Wir haben hier mit einer Weltanschauung zu thun, dio der unsern fremd ist, und in die es oft schwer hält sich hinein zu versetzen; den Grund derselben anzugeben, liegt der historischen Mythenforschung nicht ob; sie muss dies der höchsten aller geschichtlichen Wissenschaften, einer – in ihrem innern Zusammenhänge kaum noch geahnten – Geschichte des menschlichen Geistes überlassen.
33
См. его же Kleine deutsche Schriften, 11 (2‑e изд. 1848 г.), стр. 21, где, критикуя книгу Крейцера (Creuser, Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen, 2‑e изд. 1814–1822 г.) он замечает: Referent dagegen – mit dem Verfasser darin einverstanden, dass die Mythen Bedeutung haben und nicht blos entstellte Erzählungen von Facten oder Spiele willkürlich schaffender Phantasie sind-glaubt doch, dass, wo wir die Entstehung eines Mythus mit Sicherheit vorfolgen können, die dabei obwaltende Thätgkeit des Geistes eine ganz andere sei, als absichtliche Einkleidung einer Lehre in sinnbildliche Sprache; dass sich dem Gemüthe das Gedachte stets auch gleich wirklich vorhanden und sich begebend darstellte, wodurch es eben erst Gegenstand einer Erzählung, eines worden konnte. Cр. Prolegomena, стр. 123: Ich glaube wer sich in die Denk– und Anchauungsweise jener alten Menschen hineinzusetsen sucht, wird einsehen: was Hesiod von Prometheus erzählt ist ein Mythos (рассказ), keine Allegorie, ср. там же, стр. 67.
34
Prolegomena, стр. 123: Diese Veränderungen haben grosstentheils grade darin Ihren Grund, dass man den Mythus fur Wahrheit nahm…
35
Там же, стр. 356.
36
Замечательнейшим между ними является теперь Гейнрих Дитрих Мюллер, автор неоконченного сочинения; H. D. Müller, Mythologie der griechischen Stamme (I, II, 1 и 2, 1867–1869).
37
Впрочем, не одни только классики заслуживают подобного упрёка; я могу и здесь также указать на Макса Мюллера, который вследствие упомянутого поэтического направления, самые возвышенные религиозные взгляды отыскивает в древнейших памятниках человеческого духа. М. Müller, Essays, I (1860), стр. XX и след.
38
Гейзиус, учёный XVII века, высказывая этот взгляд, ссылается на Златоуста. По его мнению, виновником идолопоклонничества был не кто иной как дьявол. Geusius, Victimae humanae (1675), стр. 12: Hujus autem (idolatriae) auctor primarius est Diabolus. Вместе с идолопоклонством появились, по его мнению, и человеческие жертвоприношения; там же, гл. III: Victimae humanae; earum origo; tempus quo inceperint; causa earum primaria Diabolus; secundaria oracula, sortes, vates, aruspices et per accidens mandatum Abrahamo datum de filio immolando. В доказательство подобного происхождения и греческого обычая человеческих жертвоприношений он ссылается на Гигина: там же, стр. 33: Ita etiam Diabolus Achillem simulans voce ex ejus sepulcro edita effecit u Polyxena Trojana Priami filia ei jugularetur juxta Hyginum (1). Cр. Hyg. fab. 110.
39
Сюда относятся сочинения: Tob. Pfanneri, Systema theologiae gentilis purioris. qua quam prope ad veram religionem gentiles accesserint, per cuncta fere ejus capita, ex ipsis praecipue, illorum scriptis ostenditur (1679); Gerh. J. Vossii, De theologia gentili et physiologia christiana (1750). Об этих сочинениях говорит Любкер в статье: Der gegenwärtige Stand der religiösen Beurtheilung des class. Alterthums, cм. Lübker’s, Gesammelte Schriften zur Philologie und Pädagogik (1852), I, стр. 61: Dabei litten diese älteren Werke an dem aus einem missverstandenen apologetischen Eifer für das Alterthum hervorgegangenen Streben, eine grosse Annäherung desselben (zum Christenthum) in der Erhabenheit religiöser Ideen und der Reinheit sittlicher Maximen nachzuweisen, ohne dabei in die tiefere Einsicht… des hellenischen und römischen Bewusstseins… einzudringen. Насчёт одностороннего взгляда самого Любкера см. ниже.
40
Nägelsbach, Homerische Theologie, 1‑е изд. (1840), стр. 1. Он смотрит на греческую религию, как на попытку добраться до верного сознавания божества (Gottesbewusstsein), которое исчезло в Греции вместе с забвением первобытного откровения. Во втором издании (1861), которое приготовил верный последователь Нэгельсбаха, Аутенрит, относящееся сюда место, однако, устранено. Тут сказано только: Wir finden die Quelle des heidnischen Gottesbewusstseins in jenem dem gottverwandten Menschengeist eingepflanzten Bestreben «Gott zu suchen, ob er ihn fuhlen und finden möchte. (Apostelgeschichte 17, 27) etc. (стр. 13). Тем не менее взгляд Нэгельсбаха всюду ещё проглядывает, например, на стр. 194: Denn war ihm (dem homerischen Menschen) auch der unmittelbare persönliche Verkehr mit der Gottheit eine sichere Quelle seines Wissens von der Gottheit, so ist derselbe doch bei der vom Dichter (Homer) besungenen Generation schon im Abnehmen.
41
W. E. Gladstone, Studies on Homer and the Homeric Age (1858, 3 vols.). Этого сочинения в оригинале я не имел под рукой; в переводе Шустера, Gladstone’s homerische Studien frei bearbeitet von A. Schuster 1863, опущена глава о нравственном состоянии гомеровского века; тем не менее переводчик оставил много черт того направления автора, которое он, по примеру одного английского критика, называет «hart krystallisirte Orthodoxie des englischen Homerikers». Так, например, стр. 132, один параграф носит заглавие: Die Hauptpuncte der göttlichen Offenbarung; важнейшей из откровенных истин он считает учение о единичности и вместе с тем о троичности природы божества (mysteriöse Vereinigung der Einheit mit der Dreiheit in der göttlichen Natur); на стр. 133, он говорит: Es leuchtet von selbst ein, wie leicht es war von diesen Traditionen aus einen Weg in die Hauptcorruptionen des Heidenthums zu finden. Der nächste Schritt aus der Lehre von der Trinität (он подразумевает Gott, Messias, Teufel) konnte der zum Polytheismus sein, während zu dem Dogma von der Menschenwerdung der Grund des griechischen Anthropomorphismus gelegt zu sein schien. Затем следует параграф: Die homerischen Gottheiten, welche als Vertreter der Hauptpuncte der göttlichen Offenbarung zu betrachten sind. Представителями Троицы в Греции являются Зевс, Посейдон и Аид.
42
На этой почве основано сочинение Шнейдера, отыскивающего даже у Гомера следы христианства. Schneider, Christliche Klänge etc. (Сборник изречений древних писателей, в котором материал расположен по порядку отдельных фраз Молитвы Господней, Символа Веры и Десяти заповедей). Замечательна серьёзность, с которой Любкер возражает против подобного взгляда (я не знаю, чьё именно сочинение он при этом имеет в виду). Lubker, Gesammelte Schriften II, p. 469: Man könnte doch versucht sein, dem von der ältesten Kirche bereits angenommenen einigen Einfluss auch auf die Entferntere heidnische Vorzeit pinzuräumen. Darnach möchten also Anklänge der Wahrheit in den erleuchtetsten Geistern der Vorwelt, Spuren einer tieferen Gotteserkenntniss, wenn auch nur in einzelnen zerstreuten Lichtblicken, erhalten sein. Wenn wir indessen nicht zufällige und entfernte Aehnlichkeiten mit wirklichen Ergebniesen der Offenbarung verwechseln und ein Walten des heil. Geistes annehmen wollen vor seiner Ausgiessung, so werden wir ohne Zweifel die Wirkungen jenes auf Erscheinungen in der Heidenwelt zur Zeit des erfolgten Eintritts des Christenthums beschränken müssen.
43
Представителем этого мистицизма является даровитый Лазо, труды которого, собранные в Lasaulx, Studien des classischen Alterthums (1854), представляют много хорошего. Взгляд его на значение древних религий всего определеннее высказался в его сочинении: Ueber die Bücher des Königs Numa, ein Beitrag zur Religionsphilosophie, 1847 (Studien, стр. 92 и след.), где между прочим говорится, стр. 135: Diese Erklärung (Tertullians) der Übereinstimmung Mosaischer und Numaischer Institutionen aus des Teufels Gewalt begehre ich nicht zu vertheidigen… Die Ansicht aber von einer der Stellung Mosis zu Christus parallelen Stellung Numas nehme ich. von dem christlichen Apologeten gerne an. Сравни Tertullianus, De praescriptione haereticorum, 40: Diabolus, cujus sunt partes invertendi veritatem, ipsas quoque res sacramentorum divinorum in idolorum mysteriis aemulatur. Мнение, что дьявол присваивал себе изречения пророков с тем, чтобы злоупотреблять ими для гибели человечества, было высказано Юстином-философом и затем часто повторялось Климентом Александрийским, Тертуллианом, Лактанцием и другими. См. Lasaulx, Studien, стр. 134, прим. 206.
44
Gladstone’s homerische Studien bearb. von Schuster, стр. 246: Es kann als allgemeine Regel aufgestellt werden, dass, wo das göttliche Leben des Olympos das menschliche Leben reproducirt, dieses in erniedrigter Form geschieht. Im allgemeinen ist das Hauptmerkmal der homerischen Gottheit Emancipation von den Schranken des menschlichen Gesetzes. Mit den Menschen verglichen, werden sie durch überlegene Kraft und Intelligenz aber durch geringere Moralität charakterisirt.
45
Так, например, Любкер в своих Aphorismen über Christenthum und Heidenthum (Gesammelte Shcriften, II, стр. 463–483).
46
В этом отношении очень справедливо замечание Макса Мюллера, Essays, I, стр. XXIV: Ich weiss, die meissten Menschen haben einen stillen Widerwillen gegen jeden Versuch, der ihre eigene Religion als eine von mehreren, oder als zu einer Klasse gehörig hinstellt. In gewissem Sinne ist dieses Gefühl vollkommen berechtigt. Für jeden Einzelnen ist seine Religion, wenn er anders daran glaubt, etwas von seinem innersten Wesen so Unzertrennliches, etwas in seiner Art so Einziges, dass es mit nichts Anderes ersetzt werden kann. Unsere Mutter-Religion ist in diesem Sinne etwas wie unsere Mutter-Sprache. Ввиду всех ошибок, вытекающих из неправильного сравнивания древности с нашим христианством, приходится чуть ли не согласиться с односторонним мнением Fustel de Coulanges, La Cite antique, стр. 2: Pour connaltre la verite sur ces peuples anciens, il est sage de les etudier sans songer a nous, comme s’ils nous etaient tout a fait etrangers, avec le meme desinteressement et I’esprit aussi libre que nous etudierions l’Inde ancienne ou l’Arabie (sic).
47
Böttiger, Ideen zur Kunstmythologie, I (1826), стр. 3: Wir betrachten das Menschengeschlecht hier in der ersten Epoche des Naturzustandes und allmaliger Vermenschlichung, ohne uns auf die Frage einzulassen, war dieser Zustand nur Verwilderung und Ausartung, oder war dies wirklich die allererste Stufe. Лимбург Броуер, отклоняя с большой смелостью всю (?) тeорию откровения, признает, по-видимому, естественное развитое «религии» у греков. Limbourg Brouwer, Histoire de la Civilisation des Grecs, II (1834), стр. 3: … je ne crois раs, que’le theisme (sic) ait constitue la foi primitive des peuples, dont nous nous occupons dans cе moment. Je ne le crois pas, parceque le theisme, n’etant pas le fruit d’une revelation immediate, ne sauroit etre que l’effet d’un developpement remarquable de l’intelligence humaine, que ce developpement ne se fait pas subitement, mais par degres, et que ea marche est lente et meme difficile. Из осторожности, с которой он тут выражается, мы можем заключить о тех трудностях, с которыми должен был бороться более свободный взгляд на развитие и значение греческой религии. Там же приведены следующие слова другого учёного, высказанные на 15 лет раньше: (Gottfried) Hermann, Ueber das Wesen (und die Behandlung) der Mythologie (1819), стр. 36: Der Begriff eines einzigen Gottes setzt schon einen so hohen Grad von Geistesbildung voraus, dass es schlechterdings unmöglich ist diesen Begriff für eher entstanden zu halten, als die Vorstellung von mehreren Göttern. Ehe der Mensch sich zu dieser Idee erheben könnte, musste er erst die Erscheinungen der sinnlichen Natur in den Begriff einer Welt zusammengefasst haben, und welche lange Zeit mag wohl nothig gewesen sein, um erst dahin zu gelangen? В новейшее время более рационального направления придерживается преимущественно Ган (J. G. von Hahn, Sagwissenschaftliche Studien с 1871 г.). Blanckie, A scientific Method in the Interpretation of Popular Myths, with special reference to Greek Mythology в Transact. of the R. Soc. of Edinburgh, XXVI, 1, я не имел под рукой.
48
Kuhn, Die Herabkunft des Feuers und des Göttertranks (1859).
49
Психологи школы Гербарта, представители новой науки, так называемой психологии народов (Vоlkerpsychologie), занимающейся исследованием развития человеческого духа, то есть именно той науки, на необходимость которой указывал уже Отфрид Мюллер. Органом их направления служит издаваемый ими журнал: Zeitschrift f. Vоlkerpsychologie und Sprachwissenschaft, herausg. v. M. Lazarus u. H. Steinthal (с 1859 года вышло уже несполна семь томов). Со времени появления новой науки оказалось, что наши истории философии, литературы и проч. заслуживают только в очень ограниченном смысле название истории человеческого духа, которое они прежде присваивали себе исключительно.
50
Издатель журнала Indische Studien (с 1849 года 12 томов).
51
Труд FusteI de Coulanges, La Сiteе antique, Etude sur le culte, le droit, les institutions de la Grece et de Rome, 1864 (перевод Бабкина 1867 года), представляющий много новых и остроумных взглядов, отличается, к сожалению, поверхностностью приёмов и отсутствием достаточного учёного аппарата. Сравн., впрочем, похвальный отзыв Афанасьева в Археологическом Вестнике 1867 г. стр. 120 слл.
52
Preller, Griechische Mythologie, I (3‑е изд. 1872), стр. 1, прим. 1: Sind eigentlich Reden, Erzählungen wie fabulae топ furi und unsre Mären und Sagen, speciell die religiöses und poetischen Ueberlieferungen von der Vorzeit der Götter, Helden und Wunder, welche ohne Anspruch auf historische oder philosophische Wahrheit zu machen (I), den Kern der Ueberzeugungen und Thatsachen des ältesten nationalen Lebens der Griechen in bildlicher Form ueberlieferten und von den Dichtern, Künstlern, Historikern und Philosophen meist sehr frei behandelt wurden.
53
K. Simrock, Handbuch der Deutschen Mythologie mit Einschluss der nordischen (3‑е изд. 1869), стр. 1 слл.: Der Mythus enthält also Wahrheit in der Form der Schönheit: der Mythus ist Poesie, die älteste und erhabenste Poesie der Volker, Er ist Wahrheit und Dichtung zugleich, Wahrheit dem Inhalte, Dichtung der Form nach. Die in der Form der Schönheit angeschaute Wahrheit ist eben Dichtung. nicht Wirklichkeit: Wahrheit und Wirklichkeit werden nur zu oft verwechselt. Wirklich ist der Mythus nicht, gleichwohl ist er wahr. (Я должен, впрочем, признаться, что последних фраз не понимаю. Подозреваю, однако, что и сам автор не давал себе ясного отчёта о том, что именно он сам понимает под словами: Schönheit, Dichtung, Poesie, Wahrheit, Wirklichkeit). Дальше он продолжает: So lange die Mythen noch Gegenstand des Glaubens blieben, durfte man nicht sagen, dass diese Gedankenbilder nicht wirklich seien, dass die Dichtung Antheil an ihnen habe: sie wollten unmittelbar geglaubt, für wahr und für wirklich zugleich gehalten werden. Это казалось бы понятным, но вслед за тем автор говорит: Es gab also damals nur Mythen, noch keine Mythologie, denn die Deutung der Mythen, die höchste Aufgabe der Mythologie, war untersagt (I). Как можно говорить о непозволительности толкования того, что считалось «истинным и вместе с тем действительным?» Можно сказать, что слова Dichtung и Wahrheit, употребляемые Зимроком с заимствованной у Гёте неопределенностью их значения, характеризуют всю его книгу. Мы едва ли существенно ошибёмся, если для большей наглядности под словом Wahrheit будем понимать её «содержание» (преимущественно результаты трудов Гримма), a под Dichtung – «форму», которую придал Зимрок этому содержанию.