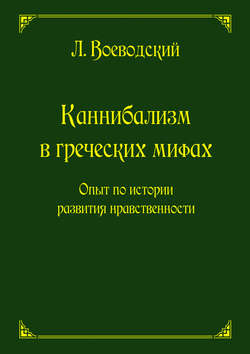Читать книгу Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности - Л. Ф. Воеводский - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности
I. Этическое значение мифов
§ 4. Религия и мораль
ОглавлениеЕсли мы взглянем на неразвитые в духовном отношении народы, то нас поражает удивительное однообразие их взглядов и чуть ли не исключительное господство одного характера и темперамента у всех отдельных лиц, составляющих подобный народ. Это внутреннее однообразие получило даже осязательный отпечаток в замечательном сходстве формы и выражения самых их лиц. Подобное явление, обусловливаемое отсутствием достаточного развития, мы, как уже замечено, должны предполагать существовавшим первоначально и в первобытном человечестве. Но так как мы видим, что такое однообразие удержалось в значительных размерах до сих пор у многих диких народов, которые, однако же, сравнительно с первобытным человечеством представляют несомненно высшую ступень развития, то мы должны заключить, что и у так называемых исторических народов оно исчезло не очень рано. Таким образом, и период полнейшего согласия во взглядах всех людей, предшествовавший выделению практической области, следует считать очень продолжительным.
До сих пор мы не обратили внимания, насколько причастна народным воззрениям сознательность, и на вытекающий из этого способ их распространения. Но с течением времени это делается необходимым: все убеждения и взгляды человека могут быть разделены на более сознательные, и менее сознательные. Вступившие положительно в фазис сознания обосновываются и передаются посредством слова, прочие же распространяются каким-то инстинктивным путём, не получая даже определённой формы в человеческом слове. Первоначально отличать убеждения по степени их сознательности не представляло надобности, потому что сознательность стояла на столь низкой ступени развития, что можно было упускать её совсем из виду, не опасаясь большой ошибки. Следует, однако, полагать, что к тому времени, когда выделилась практическая область, сознательность преуспела до того, что сделала заметное различие между более и менее сознательными этическими правилами. Итак, некоторые стороны обычая не только зарождались, но и распространялись путём почти бессознательным: индивидуум, будучи спрошен о том, почему он поступает в данном случае именно так, а не иначе, скажет, если не «не знаю», то по крайней мере, что «ведь все так поступают», а эти «все» тоже не лучше него могут подыскать логическую причину для своего образа действий. Подобного рода правила и взгляды мы назовём нравственными или моральными. Отличающиеся от них большей сознательностью взгляды, при составлении которых мы уже видим первые младенческие попытки думать и делать из наблюдений сознательные выводы, обобщения и проч., назовём религиозными. Сюда относятся понятия о существовании некоторой связи в явлениях природы (преимущественно на основании post hoc, ergopropter hoc) и об отношении человека к ней; отсюда же вытекают, вместе с понятиями о существовании божеств, и правила, как относиться к этим последним.
Итак, все старинные убеждения, воззрения и правила, словом, все духовные стороны человеческой жизни, насколько они носят на себе отпечаток общепринятости, должны быть отнесены к этической области; те из них, которым причастна в заметной степени сознательность, мы назовём религиозными, прочие же – нравственными. Подобное деление по степени соучастия сознательности мы должны, конечно, допустить и в необщепринятых взглядах, то есть, в области практической, откуда вытекает деление и этой области на теорию (науку) и практику (мелкие практические правила). Оставляя пока в стороне так называемые необщепринятые взгляды, мы теперь обратим внимание на этическую область.
Мы сказали, что отличительной чертой между религией и нравственностью служила первоначально большая или меньшая степень сознательности. Пока существовало только это одно различие, чисто моральное, оно, по мере того как поступало в фазис сознательности, мало-помалу превращалось в религиозное. На самом деле нетрудно было бы доказать, что многое, получившее впоследствии религиозную форму, превратившееся со временем даже в культ, существовало прежде в виде чисто нравственного правила: «так делать или поступать хорошо». Но со временем указанного различия между религией и нравственностью оказалось недостаточно. Если бы не нашлось никакого другого, то мы должны были бы всякое моральное правило, получившее сознательную, логическую форму, причислить к религии, а для нравственности осталось бы, в таком случае, очень мало правил, бессознательно принимаемых и никогда и нигде не получивших себе сознательного, логического обоснования. Заметим, однако, что со временем к религии присоединяется вера. Мы сказали мимоходом, что в известное время этот признак сделался отличительной чертой между всей этической отраслью и практической; но одно время он служит только отличием религии от морали. Религиозные взгляды, как получившие сознательную, логическую форму раньше, сделались вследствие этого более стойкими, тогда как моральные взгляды развивались сообразно с обстоятельствами и беспрерывно совершенствовались. Требования общепринятой религии, основанные на умозаключениях, не могли уже быть так скоро опровергаемы, так как сознательная логика подвигалась медленно и не давала, со своей стороны, способов опровергать их. Чтобы понимать эти, мало-помалу устаревавшие, религиозные взгляды и требования, нужно было много умственной работы, так что о произведении новых религиозных понятий тут могло быть мало речи. Итак, в области религиозной является застой благодаря единственно тому, что первоначально на её обработку было употреблено значительное количество интеллектуальной силы, и что религиозными взглядами дорожили как высшим достоянием человеческого духа. Когда же, наконец, логика преуспела до того, что могла бы уже опровергнуть многие из этих понятий, то эти последние успели сделаться чем-то чуждым, не подлежащим суду логики: все привыкли на них смотреть как на непонятные и вместе с тем неопровержимые истины и, таким образом, к религии присоединялась вера. Затем, в более позднее время, когда в глазах более требовательной логики и моральные взгляды могли казаться недостаточно обоснованными, и к этим взглядам присоединился элемент веры, но тем не менее различие между религией и моралью не могло исчезнуть. С самых ранних пор религия до того успела отстраниться от всякого понимания, что вера, поддерживающая её, приняла совсем другой характер, чем вера, поддерживающая моральные воззрения. Последняя соответствовала требованиям человеческой природы, вытекала как будто бы из самых существенных источников человеческих желаний и стремлений; вера же, на которой опиралась религия, сделавшись впоследствии совершенно слепым верованием или просто суеверием, часто заставляла признавать вещи или совсем индифферентные для позднейшего человечества, или даже совершенно противоречащие его понятиям о божестве. Для примера укажу только на человеческие жертвоприношения.[20]
Процесс, подобный тому, что мы видели в этической области, – а именно, что взгляды, являющиеся результатом более сознательной логической работы, вследствие этого самого отчуждаются от дальнейшего развития логики, следует предположить и в другой области (практической в обширном смысле). Самые научные взгляды и из этой области стали получать общее признание и, наконец, сделавшись, по указанным причинам, недоступными для опровержения даже более развитой логики, получали религиозный отпечаток и превращались иногда просто в религиозные воззрения. Так, например, древнейшие зачатки философии, несмотря на своё более частное, научное происхождение, почти всегда принимают характер религиозных учений. Старинные письмена с самых ранних пор успели приобрести там, где они появились, такое важное значение, что стали пользоваться положительно религиозным почётом, вследствие чего некоторые учёные и считают необходимым производить их изобретение из религиозного источника.[21] Благодаря своей важности подобные вещи освободились мало-помалу из-под влияния логики и вообще от всех требований позднейших времён. Этим объясняется и то обстоятельство, почему египетские иероглифы не могли вполне превратиться, по крайней мере у самих египтян, в чисто фонетическую азбуку, несмотря на очевидную легкость такого шага, и почему исполнение такого преобразования выпало на долю финикийцев – народа, не проникнутого религиозным значением иероглифов. Подобных примеров можно было бы указать множество. Все явления, которые мы называем особенностями школы, и которые мы иногда вернее могли бы назвать предрассудками, удерживаются чрезвычайно долго благодаря именно тому обстоятельству, что на них потрачено в самом начале слишком много интеллектуального труда, так что в некотором смысле должен был явиться застой. Даже самые мелкие практические правила могут, в силу этого, получить религиозный характер. Всё старинное, раз установившееся, свято; брать, например, ложку левой рукой – грех.[22] Если бы, например, заставить евреев читать в синагогах Священное писание не из особенных, назначенных собственно для этого свёртков, а вообще из какой-нибудь книги, то, конечно, встретилось бы множество затруднений, в высшей степени поучительных, так как ими уяснилось бы значение очень многих религиозных установлений.[23]
Но оставляя область практическую, возвратимся к той, которую мы назвали этической в более тесном смысле этого слова. По мере того как древние религиозные понятия стали удаляться от логического понимания, представилась возможность появления новых верований рядом с непонятными старыми. Между новыми воззрениями, особенно между такими, которые приняты из области научной, впоследствии, хотя и поздно, могли отыскаться и такие, на фоне которых некоторые из прежних религиозных взглядов оказывались не только нелепыми, но даже вредными. Тогда эти последние начали выделяться из области общепринятого религиозного верования в виде суеверий.
Из сказанного видно, что религиозная область, также как и нравственная, хотя и не столь быстро, подвергалась изменениям не только в своём колорите, но и в самом своём содержании. Таким образом, поставленное нами различие религии и морали становится со временем неподходящим. Поэтому спрашивается, зачем я не представил более существенных примет, которые бы во все времена могли характеризовать религию в противоположность морали? Зачем я не сказал, например, что моральным следует признать то этическое учение, которое касается поступков человека независимо от божества, а религиозным то, которое говорит о зависимости человека от олицетворяемой им природы, то есть от божества, или что-нибудь подобное? Насколько воззрения вроде последнего неудобоприложимы ко всем моментам рассматриваемых нами учений, в этом, кажется, может убедиться всякий, кто станет заниматься религиозными или нравственными вопросами. Я уже заметил, что и сам предполагаю существование в этих взглядах таких внутренних причин, которые обусловливали их распадение на различные области. Следовательно, было бы достаточно, при отличении последних, указать только на эти внутренние причины. Но найти их невозможно, пока у нас не будет под рукой всех фазисов, через которые, мало-помалу видоизменяясь, прошли и ещё пройдут учения этические. Так же точно, и по тем же самым причинам, немыслимо найти достаточное определение, хотя бы, например, какой-нибудь живой науки, то есть такое определение, которое бы вполне годилось для описания различных фазисов этой науки во все времена её существования. Таким образом, имея здесь в виду этическое развитие только древнейшей Греции, я и счёл достаточным изложить моё мнение о раннем разъединении религии и морали, вытекающих первоначально из одного и того же источника; позднейшие же судьбы этих областей нас не занимают.
Здесь, однако, я должен заметить ещё об одной важной черте, характеризующей мораль после её отделения от религии. Насколько ясно то, что религия должна была представлять смесь самых древних взглядов с более новыми, настолько понятно и то, что мораль всегда должна была отличаться современностью, потому что при появлении новых взглядов старые не имели уже той поддержки, которой пользовались религиозные взгляды. Но так как общество всегда состоит из лиц, сравнительно более развитых и неразвитых, то следовало бы предположить, что благодаря этому разнообразию и в моральных взглядах должны были существовать различные фазисы одновременно. Но тут замечательно, что если и существуют вместе моральные воззрения различного достоинства, то всё-таки менее развитые не получают той легальности, как более развитые, и даже не высказываются нигде открыто, хотя, по-видимому, и есть действительно личности, которые руководятся ими. Это последнее обстоятельство значительно облегчает работу при исследовании развития нравственных понятий, потому что, пользуясь всеми нравственными изречениями, мы почти не ошибёмся, принимая их за более развитые этические взгляды из данной эпохи, так что труд выбирания самых развитых моральных сентенций делается почти излишним.
Насчёт же нравственной стороны религиозных воззрений я должен высказать ещё следующее убеждение. Каково бы ни было происхождение различных верований: поэтическое, символическое, или какое-нибудь другое, во всяком случае я предполагаю, что нравственная сторона этих верований должна была соответствовать нравственным понятиям того времени, в котором они сложились. Невозможно, чтобы человек когда-либо облекал свои религиозные воззрения в такую форму, которая противоречила бы нравственности своего времени; невозможно, чтобы божеству приписывались такие качества и поступки, которые считаются в данное время непозволительными. Если даже и не предположить, что божеству, вследствие почтения к нему, приписывались только самые лучшие качества, то наверное можно сказать, что из боязни к нему люди никогда не осмеливались придавать ему качества, считавшаяся у них дурными.[24]
Лучшим подтверждением этого предположения служат те случаи, в которых божеству приписывается какое-либо качество, сделавшееся впоследствии неразлучным с представлением этого божества. Если со временем подобный эпитет оказывался ненравственным, то благодаря связи его с именем божества изменяется и его значение. Так, например, Эйхгофф показал, что грубое понятие о зависти богов (φθόνος θεών) получило со временем, сообразно с развитием нравственных понятий, глубоко нравственное значение.[25] Тем более, при самом появлении известного религиозного верования мы должны предполагать полнейшее соответствие формы, послужившей выражением ему, с нравственными понятиями именно того времени, в которое оно слагалось. Итак, по моему мнению, божеству приписываются качества, если не самые лучшие, то по крайней мере индифферентные в нравственном отношении, но ни в каком случае не приписываются качества безнравственные, по понятию времени, в котором слагалось известное религиозное воззрение. Поэтому, если мы, например, в теогонии Гесиода находим много таких элементов, которые в его время должны были почитаться безнравственными, то это обстоятельство и служит именно доказательством, что эта поэма не есть простое произведение собственной фантазии Гесиода, а только собрание более древних преданий, приведённых им в порядок в том виде, конечно, как он их сам понимал.
20
Позднейшие различия между религией и моралью нас здесь не занимают.
21
Geiger, Urspr. u. Entw. etc. II (1872), стр. 114: Nur aus einem heiligen Ursprünge erklärt sich die Heiligkeit der Schrift, wie sie sich nicht nur bei den Aegyptern, sondern auch bei den Chinesen, also gerade bei solchen Vоlkern nachweisen lässt, bei denen dieselbe ursprünglich und also von Anfang an heilig ist.
22
Относительно отличия левой и правой стороны укажем очень интересную статью; von Meyer, Ueber Ursprung von Rechts und Links в Verhandlungen der berl. Gesellschaft f. Anthropol. Ethnol. u. Urgesch. 1873 стр. 25. Сравн. Bachofen, Mutterrecht, стр. IX.
23
См. Lazarus в том журнале за 1871 г., стр. 57.
24
На это указывает уже Секст Эмпирик, живший в III стол. по Р. Х. Sext. Emp. Pyrrh. hypot. III, 215. О непристойных на вид эпитетах богов мы будем говорить ниже.
25
Eichhoff, Ueber einige religiös – sittliche Vorstellungen des classischen Alterthums; idem, Ueber die Vorstellung der Alten vom Neide der Gottheit (1866). Lübker, Gesammelte Schriften, I (1852), стр. 88: Die erstere (Vorstellung) von dem Neide der Gottheit entwickelt sich nach ihm (то есть, Eichhoff) durch drei Stufen hin: auf der ersten derselben wird er schlechthin als Eifersucht der menschlich gesinnten Götter auf ihre Macht und Hoheit und als Missgunst gegen die zu ihnen heranstrebenden Menschen und deren grosses und fortwährendes Glück gefasst; auf der zweiten wacht er im Dienste des Verhängnisses über die den Menschen gesetzten Grünzen und das ihm bescheidene Maas und Gleichgewicht des Glücks und Unglücks; auf der dritten erscheint er als wahrhaft sittliche Macht, als Missbilligung und Ahndung der Ueberhebung, des Hochmuths und des Frevels. Сравни Nägelsbach, Hom. Theol. (1861), стр. 33 слл.; его же, Nachhomerische Theologie (1857), стр. 46–51. При этом прилаживании религиозных взглядов к нравственным понятиям позднейших времён, для нас, восстанавливающих древнейшую нравственность по внешней форме верований, должно считаться большим счастьем, что существовали причины, делавшие противоречие религии с нравственностью не всегда заметным, отчего иногда оставались неизменяемы черты даже самых древнейших времён.