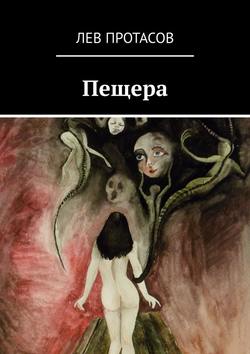Читать книгу Пещера - Лев Протасов - Страница 4
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Диана
ГЛАВА ВТОРАЯ. Зачатие (предыстория)
2. Отец Тимофей
ОглавлениеСеление, куда прибыл Андрей Михайлович с матерью и сестрами и коему в скором времени предстояло сделаться шахтерским городком, находилось на берегу реки, в некотором отдалении. Река, кажется, нередко разливалась, приносила разрушения, но такая участь грозила лишь деревням, расположенным на другой стороне (там всего только одна деревня, в роковой близости от берега, вверх по течению). Здесь же место было возвышенное, потому вполне безопасное.
И хотя многие здания соорудили только тогда, пять лет назад – существовало поселение и раньше, нищее, убогое, задавленное традиционным укладом. Оно возникло вокруг монашеской пустоши, некогда священной да, поговаривают, наделенной исцеляющей силой. Сам монастырь, правда, уже полвека как сожгли, но церковь, к нему прикрепленная, стоит до сих пор.
Церковь была каменная, от времени серая, необыкновенно изнутри просторная; устройством нефная2, в виде прямоугольника с устремляющимся на восток закругленным выступом, внутри которого размещался алтарь. Вокруг всех стен громоздились арочные галереи, сверху крытые, во многих местах порушенные, истерзанные дождевой водой, эрозией камня и оттого обрисованные незатейливым узором трещинок, звездочек, язвочек. Из сердцевины храма вырастала шатровая колокольня, увенчанная золотистым куполом – ее, вероятно, пристроили позже, потому как она совершенно не вписывалась в архитектурный стиль здания. Такие же купола, только меньше в размерах, украшали все четыре угла здания, удобно примостившись на коротеньких, округлых башенках с птичьими оконцами. В стороне, у самого края церковного двора, огороженного кирпичным забором, распласталось около двадцати, может, чуть меньше, могильных плит, без крестов, без памятников – под ними почивали основатели храма, первые послушники канувшего в летах монастыря. Сквозь кирпичный забор имелось три входа: две неуместные, хлипкие калитки да массивные ворота чугунного литья
Чужаков, предпринявших попытку наладить здесь добычу каменного угля, эта цитадель древности пугала. По вечерам, изуродованная шаловливой игрой света от заходящего солнца, и позже, ночью, располосованная неверным, мерцающим светом луны – она напоминала невероятных размеров чудовище, а узенькие оконца, причудливо оттененные лунными бликами, выглядели как ощерившиеся пасти, напоказ выставляющие острые, крестообразные клыки. Чужаки старались отогнать этот страх, неведомый, первобытный, но безуспешно. В конечном счете им приходилось как можно раньше забываться сном, прислушиваясь к волнообразной тишине. Такими ночами (то есть во всякую почти ночь) им казалось, будто место действительно обладает магической силой, и сила эта стремится прогнать непрошеных гостей.
Заправлял храмом отец Тимофей, человек старый, как всё в пустоши, медлительный, флегматичный, уже тогда почти незрячий. Сама церковь, с ее кладбищем, широким двором да скудным имуществом, принадлежала епархии, однако архиерею, данную епархию возглавлявшему, никакого не было дела ни до конкретно этого столпа православия, ни до прочих, разбросанных по левому берегу, одиноких да умирающих. Потому когорта благоухающих, прилизанных служителей нижнего звена отсутствовала – службу, таким образом, нес единственно отец Тимофей. Сознание его постепенно мутилось, темнело; силы иссякали, однако все их остатки он безвозмездно отдавал делу, которому был предан – прославлению, обереганию Бога, столь бесцеремонно потревоженного приезжими, а также, по возможности, приобщению к вере новых последователей – в лице случайных прихожан, сумасшедших проповедников, людей, сломленных горем, надломленных болезнями.
Про отца Тимофея местные говорили, будто он сумасшедший. Впрочем, над болезнью его, вызванной старостью, не смеялись, даже наоборот, воспринимали как нечто печальное, противоестественное и крайне нежелательное – одним словом, пожилого служителя скорее жалели, а поступки, совершаемые им в периоды особенного помутнения, старались не замечать либо оправдывали. Да и, кроме того, ничего чрезмерно странного, агрессивного священник не предпринимал; никаких признаков одержимости, указанных у Левия Матфея, за ним замечено не было (разве что потеря зрения, но этого едва ли достаточно) – так, расскажет иной раз о встрече с бесами или древней богиней Дианой, или Бахусом, постыдно обнаженным, но все совершенно спокойно, не повышая тона, словно желая донести до слушателей тайный смысл подобных встреч, обратить внимание на детали, подробности. Некоторые (весьма немногие) действительно пытались отыскать в откровениях Тимофея скрытое, спрятанное между слов нравоучение, однако до сих пор никто ничего не нашел и ничего не понял – вероятно, намек оказался неясным, а мораль слишком умело запрятанной. Большую же часть бывших и нынешних прихожан в качестве объяснения вполне устраивали домыслы о помутнении рассудка. Относились к старику с неизменным почтением, даже теперь – ведь, в конечном счете, он совершенно не виноват в том, что многочисленные изломы жизни оставили в его мозгу повреждения. Стоит отметить, что, несмотря на все пересуды, значительная часть которых лепились из воздуха, священника не покидали ни здравомыслие, ни накопленная за долгие годы мудрость. Что же до его видений – либо то было проявление неизбежного старческого бреда, либо дар божий.
Отец Тимофей был худощавый, высокий старец, с немного желтоватой кожей и желтыми же, как бы выжженными на солнце волосами. Говорят, в молодости взгляд его обладал особой подвижностью, красотой и проницательностью – разумеется, вся эта прелесть давно угасла. Левый глаз почти полностью затянуло белой пеленой – пелена начала образовываться лет шесть тому назад, капельками собираясь у краев разбитой, треснутой роговицы, и ныне превратила око в бездонный молочный колодец, в котором ни вечности, ни выражения – один блеск слепоты. Правый глаз оставался до сих пор зрячим, однако к пугливому зрачку подбирались такие же бледные щупальца, распарывая серую поверхность. Иеромонах, таким образом, видел крайне плохо, почти даже совсем ничего не видел. Труднее всего становилось различать оттенки, оценивать расстояния и размеры. Выходить на улицу он мог лишь в светлое время суток, у себя же в келье (так же, как в служебной части храма) ориентировался преимущественно по памяти, не желая разбавлять царивший там полумрак электрическим светом.
Тимофей практически всю свою жизнь прожил монахом – даже от соратников держался особняком.
Был внебрачным сыном одного поддавшегося искушению настоятеля и уличной девки, и такое происхождение, вероятно, доставляло ему в былые времена немало хлопот. С рождения обитал в детском доме, под негласной опекой отца своего, а по достижении четырнадцати лет был прикреплен к здешнему монастырю, опять же по желанию отца. В монастыре его приютили, взрастили, дали должное воспитание, обучили кое-чему, однако особенной благодарности нелюдимый юнец не проявлял – от окружающих веяло скорее не заботой, но холодом, надменностью. Праведные вообще впадают иногда в подобные крайности, почитая себя выше всяких богов. Здесь юноша впервые столкнулся с одиночеством, не подозревая, что оно станет его спутником до самой смерти.
По достижении зрелого возраста воспитанника постригли в монахи, против чего тот не возражал, и определили за ним место пономаря. Обязанности его оказались до крайности скудными (разжигать, подавать кадило, носить свечу и прочее), потому вскоре он сделался также певчим церковного хора, почти лишенный музыкального слуха и голоса. Ему без труда удавалось подражать другим певчим, так что он приноровился. Карьера будущего священнослужителя ползла вверх крайне медленно и, вполне вероятно, совсем бы остановилась на должности иподиакона, если бы не постигшее обитель разорение. Сам монастырь, как уже говорилось ранее, сожгли около полувека тому назад при невыясненных обстоятельствах. Церковь, стоявшую возле монастыря, оставили – голую, обожженную, непригодную. Приверженцы христианства все как один сгинули, отыскав безутешный приют в иных обителях.
Тимофей никуда не бежал – наконец он мог наслаждаться общением с извечным спутником своим, грустным, но в некотором роде приятным.
По прошествии двух лет принялся постепенно, шаг за шагом, не тратя лишних сил, но и не проявляя лености, восстанавливать священное место. Два или три раза приезжал прежний епископ, с благословением, после наведывался его преемник, именем Теофил. Этот лицемерный человек, обладавший недюжинным интеллектом, невиданным умением плести всяческие интриги, необходимой властностью – вручил Тимофею митру. Так иеромонах, некогда считавшийся выродком, получил сан архимандрита3 и был навечно забыт.
Былое величие пустоши так не восстановлено. Прозябание, выживание вопреки всему – с момента разорения, минуя высокие награды, минуя забвение, ненавистные шахты, последующий мрак, до нынешних дней, сухих, жарких дней в начале июня. Архимандрит не жаловался, всерьез полагая, что такие напасти приближают его к Богу. Ну так что с того – сказано, каждому по вере.
В конечном счете, несмотря на все перипетии, отец Тимофей действительно предавался своему делу со страстью, преисполненный надежд да сыновней любви. Ибо отцом его являлся единственно Бог – настоящий пожелал остаться неназванным. И матерью его, вероятно, можно считать одну лишь Богородицу, защитницу сирых, заступницу отверженных, – мать же по крови давно сгинула, пьяная, задавленная нищетой, нисколько не раскаиваясь и только жалея, что так дурно, так противно оно вышло…
Каждому по вере его. Так неужели каждому по вере его?..
Наконец мы лицом к лицу столкнулись с нынешним отцом Тимофеем – безвестным монахом, награжденным митрой, затворником и то ли безумным, то ли прозревшим старцем. Вспоминал ли священник о своем происхождении, потрясениях жизни прошедшей, тревожила ли его судьба родителей, так никогда им не увиденных?
О нет! Теперь он об этом не вспоминал.
Местные относились к священнику с должным уважением – по крайней мере, те из них, что обитали здесь испокон веков и сами теперь сделались старцами. Вновь же прибывших мало интересовали душевные порывы или проблема необратимого загнивания здешней религиозной ветви, но – залежи угля, но – сытость, но – бесконечное расширение, сметание любых преград на пути этого злополучного расширения, даже если в роли таковой окажется ветхая церковь, сооруженная в священном некогда месте за три или четыре века до их, ломателей, пришествия…
2
нефный храм на виде сверху представляет из себя прямоугольник с выдвинутым на восток закругленным выступом, где располагается алтарь. Ныне храмы подобной формы встречаются редко.
3
архимандрит – один из высших монашеских чинов в Православной Церкви, соответствует священнику, награжденному митрой, в белом духовенстве.