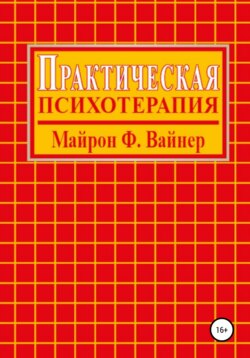Читать книгу Практическая психотерапия - Майрон Вайнер - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2
Созревание, механизмы совладания и защиты
Созревание
ОглавлениеПроблемы, с которыми обращаются к психотерапевту, часто связаны с нарушениями процессов созревания. Терапия с такими пациентами может состоять из попыток рестимулировать здоровые процессы созревания путём проработки или отказа от желаний, конфликтов и идентификаций, ответственных за фиксацию на каком-то незрелом уровне психологического функционирования или регрессию к незрелому уровню.
Схемы развития, которые будут использоваться, включают схемы Пиаже (Piaget, 1954), Фрейда (Freud, 1905/1960, 1923/1961, 1932/1964, 1940/1964), Эриксона (Erikson, 1959, 1963) и Левинсона (Levinson, 1978), все они обобщены в Таблице 1.
Первый важный послеродовой шаг в психологическом развитии состоит в установлении связи между ребёнком и матерью. Похоже, установление этой связи – врождённый процесс, который не требует особого подкрепления. В течение первого этапа жизни у младенцев развивается убеждённость, что их потребности будут удовлетворены внешним миром, и постепенно они начинают отличать то, что внутри, от того, что снаружи.
Различие между внутри-меня и снаружи-меня характеризует возникновение границ Эго и тестирования реальности; способность определять, что происходит в Я и в окружающей среде, а также понимать различие между ними (см. Рис. 1).
Многие терапевты считают, что в отсутствие обеспечения терапевтом холдинг-среды (Winnicott, 1965), которая сравнима с адекватным некритикующим принятием потребностей ребёнка матерью (не обязательно удовлетворяя их все), пациенты не могут сформировать достаточное базовое доверие к терапевту, необходимое для выполнения совместной психологической работы.
Фрейд (Freud, 1904/1953) говорил о первом годе жизни как об оральной стадии развития, основываясь на предположении, что психическая энергия человека, или либидо, вначале концентрируется вокруг рта – органа, которым ребёнок исследует свою окружающую среду, – прежде чем глаза и уши начнут предоставлять достоверную и понятную информацию. Избыточная фрустрация или вседозволенность на любой стадии развития может вызвать фиксацию индивидуального эмоционального развития на этом этапе или склонность регрессировать на этот эмоциональный уровень, когда человек сталкивается с фрустрацией на более высоком уровне функционирования.
Понятия регрессии и фиксации помогают объяснить многое о жизненном стиле пациента и его взаимодействии с терапевтом в процессе терапии, и их проще всего понять в контексте их проявления в раннем детстве (Brenner, 1973). Малыши, которые учатся ходить, испытывают фрустрацию из-за неспособности самостоятельно стоять, удручённо плюхаются на пол и начинают плакать, но затем засовывают палец в рот и энергично его сосут, пока их уровень напряжения не снизится достаточно, чтобы снова попробовать пойти. Такой ребёнок временно регрессирует к более раннему уровню удовлетворения (сосание), прежде чем попытаться освоить более сложный тип мышечной активности, приносящий удовольствие (ходьба). Другой малыш, который уверенно осваивает ходьбу, ходит, засунув палец в рот, тянет за собой одеяло и трётся об него щекой. У этого ребёнка сохранилась фиксация на более ранней стадии. Более высокий уровень адаптации освоен, но ребёнок не желает отказаться от старых способов удовлетворения. Однако даже такой уровень фиксации имеет адаптивную ценность, поскольку одеяло служит переходным объектом, мостиком между связью с матерью и связью с другими вещами, а затем и с другими людьми.
В ходе терапии пациентка, которая начинает осваивать свои сильные стороны и сталкиваться с ситуациями, которых она ранее избегала, может временно психологически регрессировать и воспринимать терапевта как жестокого экзаменатора, который пытается контролировать её жизнь. Одновременно она может воспринимать терапевта как источник подпитки и задерживаться в кабинете по окончании сессии. Могут случаться и более злокачественные формы регрессии. Мальчик-подросток, например, перестал принимать иммуносуппрессанты и отторг пересаженную почку, поскольку испытывал давление функционировать на более высоком уровне, чем он эмоционально был способен. Он всю жизнь жил дома, но спустя некоторое время после успешной пересадки родители отселили его, надеясь, что это научит его самодостаточности, предполагая, что, поскольку ему больше не нужен диализ, у него нет необходимости и видеться с ними каждый день (Armstrong & Weiner, 1981).
Таблица 1. Сравнительные схемы развития
Детский и подростковый возраст
Взрослый возраст
Рис. 1. Развитие психического аппарата в течение жизни
Пояснение к Рис. 1
Взгляд Фрейда на психологическое развитие отражён на Рис. 1. Влияние семьи на формирование каждого человека на этих диаграммах не указано, чтобы не усложнять картину. Круговые диаграммы помогают конкретизировать индивидуальное психосексуальное развитие и создают основу для Главы 3 этой книги, которая касается вопросов психопатологии.
Психика ребёнка на момент рождения показана в виде массы недифференцированной психической энергии, из которой развиваются Ид и Эго. Эго – это часть психического аппарата, которая контактирует с реальностью, действуя в качестве посредника между влечениями, желаниями и окружающим миром. Ид – это импульсы, чувства и мысли, которые активно вытесняются из Эго, поскольку воспринимаются как опасные для него. Рост Эго продолжается до среднего или позднего взрослого возраста. Суперэго начинает развиваться в поздний оральный период и продолжает в течение фаллического и эдипального периодов. Суперэго представляет собой инкорпорированные ребёнком ценности родителей. К семи годам Эго, подчиняясь контролю Суперэго, обладает уже достаточно сильным механизмом вытеснения, что позволяет ребёнку социализироваться – быть в группе и адекватно вести себя с другими детьми и взрослыми.
В период полового созревания активизируется половой аппарат и развивается скелетно-мышечная система, что усиливает влечения Ид. Для компенсации возрастающей силы влечений Ид Суперэго тоже должно измениться, его ценности перестают быть абсолютными. Рост Эго продолжается. Диаграмма, представляющая идеального взрослого, показывает, что бо́льшая часть Эго является бессознательной. Ид же полностью вытесняется в бессознательное. Значительная часть Суперэго тоже бессознательна, в то время как его сознательная часть отражает стандарты поведения, которые мы называем моралью. Эго-идеал – это наши сознательные и бессознательные представления о том, какими мы должны быть; это наши идеалы и стремления, направленные на самих себя.
Диаграмма, представляющая индивидуума в пожилом возрасте, показывает уменьшение Эго вследствие снижения физической витальности, уменьшения количества клеток мозга и снижения остроты восприятия органов чувств. Снижение полового тонуса и агрессивных влечений понижает давление Ид на Эго, а зрелость играет важную роль в снижении иррациональных требований, накладываемых Суперэго.
Пациенты с психологической фиксацией могут начинать цепляться за терапевта с самого начала терапии, настаивая на необходимости иметь доступ к нему 24 часа в сутки, таким образом воспроизводя реальные отношения мать – младенец. Не следует, однако, забывать, что в психологическом смысле терапевты действительно служат переходными объектами или мостами к реальному миру межличностных отношений (Slipp, 1982).
В младенческом возрасте также начинается процесс сепарации-индивидуации (Mahler, 1979). По мере того, как младенец начинает проводить различие между собой и матерью, он в то же самое время начинает от неё отделяться. В возрасте шести месяцев младенцы начинают покидать своих мам, но спешат обратно, если что-то их напугало. Такое поведение в течение первых двух лет жизни отчасти обусловлено тем, что в это время дети находятся на сенсорно-моторной стадии когнитивного развития по Пиаже. На сенсорно-моторной стадии всё то, чего ребёнок не видит, не ощущает и не слышит, для него не существует. По мере того, как у ребёнка развивается способность сохранять умственный образ матери, он может всё больше отдаляться от неё, сохраняя при этом чувство близости с ней. Обычному ребёнку требуется три года для достижения этой стадии, которую Пиаже обозначает понятием константность объекта (Piaget, 1954).
Развивающееся Эго всё более пристально держит Ид под присмотром. По мере роста Эго оно принимает на себя управление разрядом импульсов Ид. Два базовых механизма, с помощью которых Эго держит Ид в узде, – это подавление и вытеснение. Подавление[9] – это сознательное сдерживание или отрицание. Вытеснение – это бессознательный механизм, с помощью которого Эго лишает импульсы доступа в сознание и погружает их в бессознательную часть психики. Инфантильные влечения, перенаправленные в бессознательный сегмент психики, постоянно ищут выхода для разрядки, что особенно заметно проявляется в сновидениях. Когда вытеснение становится неэффективным или неадекватным, подключаются другие защитные механизмы, как мы увидим далее при обсуждении механизмов совладания и психических защит.
К двухлетнему возрасту, пройдя уже определённый путь в своём процессе сепарации-индивидуации, дети начинают демонстрировать собственную индивидуальность и способность к саморегуляции. Эриксон называет эту стадию автономия в борьбе со стыдом и сомнением, и её успешный исход ведёт к развитию самоконтроля и силы воли. В своей схеме психосексуального развития Фрейд называет этот период «анальная фаза».
Ко второму году жизни интеллектуальное развитие детей переходит от сенсорно-моторной стадии интеллектуального развития, где вещи существуют, только если их можно увидеть или потрогать, к дооперациональной стадии по Пиаже, на которой и сам объект, и его действия можно помнить. Если на сенсорно-моторной стадии дети плачут, потеряв объект из вида, потому что то, что пропало из поля зрения, для них не существует, то на дооперациональной стадии они думают, что то, что не видно, но, помнится, где-то существует, и начинают это искать. Дети по-своему узнают о законе сохранения материи – о том, что материальные вещи не могут просто так исчезать.
Между 18 месяцами и тремя годами у ребёнка стабильно формируется представление о себе как о мальчике или девочке. Гендерная идентичность ребёнка сильнее связана с ролью, которой наделяет его семья, чем с его анатомией (Stoller, 1968). На этой стадии дети узнают о своих гениталиях и переходят (по классификации Фрейда) в фаллическую стадию психосексуального развития. Фиксации на этой стадии психосексуального развития в основном связаны с озабоченностью о невредимости собственных гениталий у мальчиков и желанием обладать пенисом у девочек. Эксгибиционисты и люди, которым постоянно нужен секс, компульсивно пытаются доказать невредимость собственных гениталий. Женщины, которые занимают доминирующее место в лесбийских отношениях и надевают искусственный фаллос во время сексуальной близости со своими партнёршами, реализуют собственное желание обладать пенисом.
Формирование морали начинается с инкорпорирования ребёнком родительского «нет». Иногда можно видеть, как дети на этой стадии бьют себя по рукам и говорят сами себе «нет». Мораль или Суперэго приходит на помощь Эго в вытеснении неприемлемых влечений и желаний в бессознательное. Оно формируется путём инкорпорирования родительских установок в том виде, в котором ребёнок их видит, и наказывает Эго чувством вины, если эти установки нарушаются. По причине примитивности мыслительных процессов ребёнка мораль маленьких детей также примитивна. Поступки могут быть либо правильными, либо неправильными. Они влекут за собой наказание или не влекут, независимо от обстоятельств, и эта мораль не знает исключений.
В возрасте от четырёх до шести лет дети претерпевают значительную децентрацию (Piaget, 1954). Помимо увлечённости собой и собственными нуждами, они становятся способны устанавливать связи с другими людьми и вещами (способность к объектным отношениям) в своём окружении. Тот же процесс можно описать во фрейдистских терминах как отказ ребёнка от первичного нарциссизма (тотальная самоувлечённость и любовь к себе) и развитие способности рассматривать других и взаимодействовать с ними как с людьми с их собственными потребностями и одновременно – как с посредниками на пути удовлетворения собственных потребностей (Brenner, 1973). Переход от первичного нарциссизма к объектным отношениям всегда болезненный, находящийся на этом этапе развития ребёнок учится испытывать и выдерживать амбивалентность – одновременное наличие в своей душе противоположных чувств по отношению к одному и тому же человеку, который одновременно что-то даёт и в чём-то отказывает, вызывает одновременно удовлетворение и фрустрирует. Детям на дооперациональном интеллектуальном уровне трудно понять, что один и тот же человек может и нянчить, и шлёпать тебя. Вначале происходит психическое разделение на хорошую маму и плохую маму, или на хорошего папу и плохого папу. По мере того, как дети становятся достаточно зрелыми, чтобы выдерживать амбивалентность и признавать, что один человек может обладать разными качествами, эти два раздельных психических образа в душе ребёнка объединяются.
Под влиянием членов семьи дети могут фиксироваться на доамбивалентной стадии по отношению к одному или обоим родителям. Ребёнок может сохранить негативный образ своей матери, если значительная часть опыта его общения с ней состоит из образа строгой воспитательницы, постоянно требующей дисциплины. Исходя из такого опыта мать начинает восприниматься как абсолютно плохая, а отец – как абсолютно хороший. В случае неудовлетворительных супружеских отношений сами родители могут поддерживать такое восприятие ребёнка. В большинстве случаев ребёнок всё же из этой фазы вырастает и в возрасте от 4 до 6 лет проживает следующую фазу психосексуального развития, эдипова комплекса. В этой фазе у ребёнка развивается привязанность к родителю противоположного пола, и он выражает желание исключить родителя одного с собой пола из их отношений. Дети идентифицируются с родителем одного с собой пола и начинают репетировать взрослую роль.
По мере того, как у детей развиваются моторные навыки, язык и коммуникативные навыки, у них также начинает развиваться и способность откладывать вознаграждение. Эта способность выдерживать напряжение ожидания до того момента, когда потребность может быть удовлетворена оптимальным образом, называется принципом реальности. Принцип реальности – это способность терпеть сейчас ради получения большего удовольствия в будущем. Младенцу знакомо лишь ощущение удовольствия или дискомфорта в конкретный момент. Если прекращается приятное ощущение и начинается дискомфорт, младенец требует, чтобы с этим немедленно что-то сделали. В этом своём самоощущении и требовании он руководствуется так называемым принципом удовольствия – непосредственным поиском удовольствия и избеганием боли. Частичный отход от принципа удовольствия (мы никогда не отказываемся от него полностью), рост Эго, способность выдерживать фрустрацию и фокусировать внимание помогают детям начать формальное школьное обучение. Развитие Суперэго также этому способствует. Интернализовав правила поведения, семилетние дети не требуют более постоянного надзора, чтобы убедиться, что они никого не ранят и не возьмут чужое. Роль родительского надзора интроецируется и становится частью собственного Суперэго, которое пользуется чувством вины, чтобы помогать детям регулировать своё поведение.
Период психосексуального развития, который совпадает с возрастом, в котором дети начинают посещать школу, Фрейд назвал латентным периодом. Эдипов комплекс вытеснен: у мальчиков это связано с тем, что они боятся утратить свой пенис, а у девочек – из-за страха потерять любовь матери. Согласно Эриксону, основной конфликт на этой стадии развивается в форме «уметь или быть неполноценным». Дети учатся работать, чтобы получить взамен признание в разной форме, и это создаёт основу для их способности созидать и достигать чего-то за пределами собственной семьи. Их интеллектуальный аппарат также функционирует лучше, они продолжают децентрироваться и, согласно классификации Пиаже, вступают в конкретную операциональную стадию интеллектуального развития.
На этой стадии ребёнок уже способен менять своё мышление, когда сталкивается с тем, что его восприятие неверно, и начинает осознавать взаимозависимость вещей, например высоты предметов с их шириной. Дети на дооперациональной стадии не могут понять, почему высокий узкий стакан может вместить столько же воды, сколько и низкий широкий. Процесс децентрации ребёнка на конкретной операциональной стадии достигает точки, когда ребёнка можно попросить представить что-то в воображении с другой физической точки зрения или с точки зрения другого человека. Кроме того, они начинают осознавать, что материальные вещи не появляются и не исчезают сами по себе. Когда маленькие дети смотрят, как из одной ёмкости вода перетекает в другую, более крупную, они видят, что большая ёмкость остаётся незаполненной. Когда их спрашивают почему, они говорят, что в большей ёмкости меньше воды, но не могут сказать, куда делась недостающая вода. Дети же на конкретной операциональной стадии говорят, что в обеих ёмкостях одинаковое количество воды, но большая ёмкость не заполнена, поскольку она больше и может вместить больше воды.
Дети в начальной школе учатся самостоятельно функционировать вне семейного круга и знакомятся с общественными ценностями. Они учатся соревноваться со сверстниками и общаться со старшими. Дети обоих полов начинают исследовать свою сексуальность, но им скорее интересно как гениталии выглядят, чем то, для чего они созданы.
Около 11–12 лет дети вступают в последнюю фазу интеллектуального развития, описанную Пиаже, – стадию формальных операций. Нужно помнить, что, вероятно, не более 30 % взрослых достигают этого уровня интеллектуального развития. Это способность представить, что могло бы быть; вообразить, что, возможно, за рамками того, что тебе уже известно. Можно представлять другие миры, равно как и другие способы выполнения обычных задач. Действительно, можно представить других родителей, а собственные родители нередко подвергаются острой критике за то, что не могут соответствовать образу идеальных родителей – таких, зачастую думает ребёнок, которые есть у его друзей. Помимо способности критиковать родителей, стадия формальных операций открывает возможности для научного мышления; оно позволяет разрабатывать гипотезы, которые можно проверить путём наблюдения или эксперимента.
В предподростковом возрасте начинаются гормональные изменения, которые достигают пика в период биологического пубертата. Способность сублимировать агрессивные и сексуальные влечения в школьной учёбе и командных играх начинает страдать, и дети предподросткового возраста становятся раздражительными, недовольными и трудно поддаются контролю. Дети обосновывают свою раздражительность тем, что считают своих учителей слишком строгими, а домашние задания – слишком сложными. Они проецируют свою агрессию на других и чувствуют, что школа слишком многого от них требует. Дети объединяются в группы и начинают противодействовать своим предполагаемым взрослым преследователям.
Подростковый возраст – это время, когда достигается полное физическое созревание. Зачастую интеллектуальное и эмоциональное развитие отстают. Блос (Blos, 1962) высказывал предположение, что подростки сталкиваются с тремя основными психологическими задачами: сепарация от родителей, интеграция нежных чувств с сексуальными и развитие стабильной идентичности. Формирование идентичности рассматривается Эриксоном как ядро подросткового возраста. Он описывает эту фазу как успешную, если личностная идентичность устанавливается, и как неуспешную, если в душевной жизни продолжается то, что он назвал путаницей ролей.
Эмоциональная зрелость отнюдь не обязательно наступает с завершением биологического подросткового возраста. Эмоциональное созревание может продолжаться в течение всей жизни, а подростковый возраст – лишь очень ранний этап этого процесса (Vaillant, 1977).
В раннем подростковом возрасте обычно происходит заметная психологическая регрессия. Ребёнок, как бы подталкиваемый в своём развитии биологическими процессами своего организма, цепляется за остатки ранних фиксаций. Шутки о мочеиспускании и дефекации, так распространённые среди подростков, – только один из многочисленных примеров частичной регрессии их Эго. Мальчики и девочки раннего подросткового возраста любят, когда с ними возятся родители противоположного пола, – это даёт им возможность заново переработать результат их ранних эдипальных конфликтов. Происходит также важная перестройка Суперэго: из ригидной и жестокой системы «око за око» Суперэго переходит к более гибкой и разумной системе ценностей.
Подростки, которые перешли в стадию формальных операций, могут уже видеть условность правильного и неправильного; видеть, что в некоторых обстоятельствах то, что раньше считалось неправильным, может быть допустимым и правильным. Для некоторых это означает, что можно красть или обманывать, если это делается для достижения хороших, правильных целей, цель оправдывает средства.
Хотя многие подростки перешли на формальную стадию интеллектуальных операций, способны видеть мир с разных точек зрения и предвидеть последствия своих поступков, психическая регрессия порой не позволяет им верить, что их поступки действительно могут вызвать негативные последствия.
Непостоянство подростков в их личных отношениях, похоже, является следствием нестабильности их идентификаций, однако эти пробы готовят почву для более стабильной идентичности. Дети пробуют идентифицироваться с человеком, становясь его другом, но могут отвергнуть или бросить друга, когда идентификация по той или иной причине их больше не устраивает. Чрезмерная идеализация друзей, похоже, основана на том же механизме. Влюблённости и романтические увлечения и у мальчиков, и у девочек готовят почву для определения себя в своей женской и мужской идентичностях, влюбляются обычно в такие качества человека противоположного пола, которые для своего пола считаются неуместными (см. Рис. 2). «Бисексуальность», которая указана на Рис. 2, касается культурно предписанных маскулинных и феминных черт, а не сексуальных предпочтений. Девушке нравится сила и грубоватость её молодого человека; ему нравится её нежность. Совершая переход к более взрослой мужественности и женственности, юноша и девушка «разлюбляются» и постепенно выбирают партнёров на основе не стереотипов мужественности или женственности, а других атрибутов.
В подростковом возрасте неудача в парных отношениях – очень частое явление, и оно обычно связано с темой эдипальности. Например, девушка влюбляется в юношу потому, что его никто не понимает, так же как её отца не понимала её мать. Во взрослом возрасте она становится женщиной, которую привлекают деградировавшие мужчины, примером тому может служить женщина, которая несколько раз выходит замуж за мужчин-алкоголиков. Мужчина же, например, может выбирать женщину за идеальные качества, которыми она походит на его мать, но может искать сексуального удовлетворения с деградировавшими женщинами, например с проститутками, по причине инцестуального барьера и страха перед местью отца, теперь инкорпорированного в его Суперэго. Деградация любимого человека часто становится ценой, которую требует Суперэго за выбор человека, чем-то символизирующего недоступного родителя (Weiner, 1980).
В нашей культуре физическая сепарация от родителей обычно происходит в конце подросткового возраста, когда молодые взрослые устраиваются на работу, поступают в колледж или идут в армию. К этому времени идентичность человека как мужчины или женщины в сексуальном смысле обычно уже достаточно стабильна, но во время подросткового возраста имеет место выраженный аутоэротизм, который одновременно служит бегством от противоположного пола и тренировкой сексуальности, также нередки сексуальные эксперименты с людьми собственного пола. Карьерная идентичность зачастую формируется лишь к раннему взрослому возрасту, во время или после завершения колледжа или даже на более поздних этапах. В последние годы возросла тенденция откладывать карьерные решения до 25–30 лет со значительным периодом моратория между завершением биологического подросткового возраста и началом активной работы над карьерой. Это, вероятно, хорошо, поскольку позволяет подросткам старшего возраста сформировать личностную идентичность до формирования профессиональной идентичности, что даёт более широкий диапазон навыков и механизмов совладания. Эриксон (Erikson, 1963) определяет базовый конфликт молодого взрослого возраста как конфликт между интимностью и изоляцией и высказывает мысль, что именно на этом этапе развивается способность к сотрудничеству, лояльности и любви.
Молодые взрослые обычно работают на оплачиваемой работе или развиваются в направлении достижения карьерного выбора, получая дальнейшее образование.
Рис. 2. «Влюблённость» и сексуальная дифференциация
Похоже, что затянувшаяся зависимость от родителей и образовательных учреждений замедляет процесс психологического созревания. Те, кто работает на оплачиваемой работе, обычно быстрее достигают зрелости, чем те, кто продолжает обучение, но продолжительный период психологической открытости тех, кто продолжает своё образование, открывает им более разнообразные пути развития, что менее доступно тем, кто рано взял на себя личную ответственность за свою жизнь.
Брак – признак готовности человека к взаимодействию на взрослом уровне и к принятию взрослой ответственности. Брак говорит о том, что человек готов сделать следующий шаг – выйти за рамки романтической любви и взять на себя официальную ответственность за отношения. Однако нередко молодые взрослые пользуются браком, чтобы убежать от родительского контроля; эти молодые люди полагают, что брачные отношения предоставят им независимость. Такие браки часто оказываются неудачными, поскольку брачные отношения требуют сотрудничества и совместной жизни, что требует душевной способности ставить собственные потребности наравне с потребностями другого.
Родительство – это также шаг к взрослой ответственности. Родительство накладывает больше требований, чем брачные отношения. Воспитание маленьких детей требует, чтобы их потребности ставились выше потребностей родителей. Взаимоотношения родителей с детьми постепенно меняются по мере того, как дети растут. Они развиваются таким образом, чтобы, когда для детей наступит пора покинуть дом, самим стать взрослыми и выйти в большой мир, они были готовы принять на себя основную долю ответственности за свою жизнь.
В идеале мужчины и женщины овладевают собственной сексуальностью до брака и родительства. Это, вероятно, не так для людей, которые вступают в брак до или вскоре после наступления двадцатилетнего возраста. Мужчине непросто усвоить, что сексуальная пенетрация не обязательно доставляет удовольствие его партнёру. Часто мужчины приравнивают сексуальное удовлетворение к оргазму, и для них тонкие, более изощрённые сексуальные удовольствия могут иметь регрессивные коннотации, связанные с материнскими ласками. Женщины, с другой стороны, узнают, что источником сексуального удовольствия помимо клиторальной стимуляции может быть вагина. У мужчин и женщин разные паттерны возбуждения. Женщины возбуждаются медленно, но сохраняют возбуждение дольше и способны достигать нескольких оргазмов, в то время как мужчины возбуждаются быстрее и испытывают рефрактерный период после оргазма (Sadock, 1980). Интеграция тонкостей этих паттернов возбуждения и разрядки требует чувствительности к собственным потребностям и потребностям партнёра, а также способности сообщить о собственных потребностях другому. Взрослая сексуальность – это, безусловно, сложное межличностное общение.
Стадия раннего взрослого возраста, по Левинсону (Levinson, 1978), захватывает возрастной период с конца второго десятка до пятого десятка и включает множество биологических, психологических и социальных изменений. В начале раннего взрослого возраста мужчины и женщины достигают полной физической зрелости и находятся на пике своих физических сил. В процессе перехода от третьего к четвёртому и пятому десяткам физическая выносливость снижается, и появляются другие признаки старения. Начинают развиваться расстройства, связанные со стрессом и напряжённым образом жизни, например пептическая язва или ишемическая болезнь сердца. К концу раннего взрослого возраста женщины начинают утрачивать свою репродуктивную способность. Снижающиеся по мере достижения конца раннего взрослого возраста физические возможности мужчины напоминают ему о том, что его способности брать на себя новые физические занятия ограничены и что источниками удовольствия нужно выбирать более спокойные виды деятельности.
В ранний взрослый период происходит множество психологических изменений. Первое – инициация в мире взрослых, в котором правила, выученные в детских играх или во время жизни дома с мамой и папой, более не применимы. В раннем взрослом возрасте люди учатся разрабатывать правила, которые работают для них, в то же время формально соблюдая общепринятые правила поведения. Они учатся лгать, когда это необходимо, и говорить правду, когда это наиболее полезно, демонстрировать свои лучшие стороны новому работодателю и расслабляться лишь тогда, когда работа выполнена. У них развивается способность находить друзей среди взрослых, но оставаться достаточно сепарированными от них, чтобы не следовать вслепую туда, куда их ведут.
Те, кто решает завести детей, заново проживают собственное детство и получают возможность косвенно переработать собственные детские конфликты и дать своим детям то, чего им бы самим хотелось иметь в детстве. Обычно жизненная стадия раннего взрослого возраста человека включает весь период роста его детей. Одна из финальных точек раннего взрослого возраста для женщин, помимо менопаузы, – уход из дома их детей. Тогда (если не раньше) женщины могут решить определить себя как человека, отдельного от супругов и детей, и заново войти в профессиональный мир, который им, вероятно, пришлось покинуть для того, чтобы воспитать детей.
Во время раннего взрослого возраста происходят глобальные изменения в социальных ролях. Молодые взрослые подобны подмастерьям в мире взрослых – это младшие члены общества. Молодые взрослые в начале четвёртого десятка зачастую пребывают на вершине своих профессиональных и социальных успехов, достигают максимальной профессиональной и социальной реализации и надёжно закрепляются в профессиональном мире. Изменения социальных ролей женщин во время этого периода более сложны, чем изменения у мужчин. Воспитание детей часто приостанавливает карьерный рост женщин, и они тратят на это значительную часть своего раннего взрослого возраста, вследствие чего их карьерное развитие значительно отстаёт от тех, кто не прерывал своих карьер. В то время как мужчины обычно идентифицируются со своей работой или профессией, женщины склонны колебаться между рабочей или профессиональной идентичностью и идентичностью в качестве жён и матерей. У некоторых женщин на всю жизнь утверждается материнская идентичность. Другим приходится искать новую идентичность после того, как они прекращают воспитывать детей (Mogul, 1979).
Поскольку всё больше женщин приходит в профессиональный мир (около 40 % рабочей силы на сегодня представлено женщинами), они всё реже остаются дома и могут предоставлять друг другу социализацию и эмоциональную поддержку (Glick & Kessler, 1980). Рост числа работающих женщин ознаменовал рост темпа выхода женщин на работу, чтобы уйти от социальной изоляции и получать осязаемые вознаграждения за их услуги, что позволяет им оценивать собственную ценность.
Во время периода раннего взрослого возраста зачастую происходит полная реверсия ролей в отношениях родителей. Происходит переход от зависимости от родителей ко взаимному принятию как взрослых, после чего следует реверсия ролей, по мере того как их родители становятся слабее и начинают зависеть от своих детей в вопросах физической и финансовой поддержки.
Мы не знаем, какой эффект на развитие женщин оказывает выбор карьеры вместо брака и воспитания детей. В прошлом незамужний статус часто приравнивался к нежеланности или несостоятельности. Сегодня жизнь, построенная вокруг карьеры, – очевидный вариант, минимально стигматизированный, но имеющий множество недостатков. Основной недостаток – отсутствие формальной связи с другим человеком и социальная изоляция, с которой приходится иметь дело одиноким женщинам. Эффективно справляться с этим помогают широкий диапазон социальных интересов, увлечений и интересная работа. В этом контексте для многих женщин брак может быть следствием невозможности или неудачи в разработке собственных ресурсов, но очевидно, что обретение достаточных эмоциональных, социальных и экономических ресурсов для самостоятельной жизни трудозатратно и для женщин, и для мужчин.
С биологической точки зрения средний взрослый возраст начинается во время начала женской менопаузы (Notman, 1980). Для мужчин не существует аналогичного биологического маркера, и они лишь испытывают некоторое снижение сексуального влечения и физической энергии. Замедляются метаболические процессы, и требуется уделять особое внимание потреблению пищи, чтобы избежать набора лишнего веса. Возникновение хронических заболеваний наподобие гипертонической болезни требует регулярных медицинских осмотров, более пристального внимания к диете, например ограничения потребления соли и холестерина, а также приёма лекарственных препаратов. Использование препаратов для лечения гипертонии или женских гормонов для симптомов менопаузы затрагивает конфликты по поводу зависимости и автономии, а также неизбежно влечёт за собой жизнь с побочными эффектами от лекарств.
С психологической точки зрения люди среднего взрослого возраста обычно приходят к пониманию, что их карьера достигла максимального развития. Исключением могут быть женщины, которые выпали из рынка труда, чтобы воспитать детей, либо женщины, которые решили выйти на рынок труда в среднем возрасте. Во многих случаях образованные или талантливые женщины среднего взрослого возраста способны начать успешную карьеру либо продолжить карьеру, которая была прервана. Это может повлечь за собой проблемы в супружеских отношениях, когда мужья видят, что их жёны начинают обгонять их в профессиональном развитии или когда баланс власти в семье смещается, по мере того как женщины становятся главными кормилицами и начинают ставить себя на равных в других аспектах.
На социальном уровне обычно есть устоявшаяся сеть друзей, и друзья начинают занимать место детей, которые теперь начинают выходить из-под родительского доминирования и покидать дом. Родители взрослых людей этого возрастного периода обычно уже ограничивают свою социальную активность, вероятно, выходят на пенсию, у них развиваются хронические проблемы со здоровьем, что часто требует участия их детей. Такая реверсия ролей, в которой, например, мать нуждается в своей дочери, чтобы та отвела её к врачу, может стать источником напряжения для детей, которые хотят сохранять независимость от родителей, или для родителей, которые не могут позволить себе быть зависимыми или регрессировать.
Эриксон высказывает идею о том, что базовый конфликт на этой стадии жизни – производительность или застой: готов ли человек участвовать в развитии следующего поколения взрослых сотрудников, или выбирает смириться с собственным упадком, или начинает защищаться от более молодых людей, опасаясь быть смещённым ими.
Если люди среднего взрослого возраста хотят избежать одиночества и скуки в более преклонном возрасте, им следует готовиться и предвидеть наступление позднего взрослого возрастного периода. В среднем взрослом возрасте им необходимо, если это не было сделано ранее, поддерживать свои физические, социальные и интеллектуальные интересы в соответствии с их возрастом.
В среднем взрослом возрасте на сцену выходят внуки. Они дают взрослым среднего возраста возможность заново прожить некоторые аспекты их детства, что во многом подобно тому, как молодые взрослые перепроживают некоторые аспекты своего детства в своих детях. Поскольку дедушки и бабушки воспринимают маленьких детей в меньшей степени как часть себя и в меньшей степени склонны отыгрывать свои запретные импульсы на них, как это делают родители, они зачастую более заботливы, чем родители. Это, конечно, становится источником потенциальных конфликтов с родителями, которые гневно реагируют на отказ их собственных родителей устанавливать границы, которые, как полагают родители, так необходимы их детям, но которым они яростно противились, будучи сами детьми.
Трудности женского среднего взрослого возраста также характеризуются прекращением месячных у женщин. Для мужчин трудности проявляются в реакциях на болезни, например на сердечные заболевания (Cassell, 1979).
Женщины в постменопаузе горюют по своей юности, по утрате репродуктивной способности и по детям, которых уже никогда не родят. Синдром инволюционной меланхолии (тяжёлая монополярная депрессия у женщин в постменопаузе) ранее относили к постменопаузальным изменениям в метаболизме. Сейчас склоняются к тому, что постменопаузальная депрессия обычно мало связана с гормональным дисбалансом, нежели со способностью женщины принимать или менять свою роль. Депрессия, которая часто следует за гистерэктомией, является отчасти реакцией на утрату органа, которому не существует адекватной замены.
Говоря о мужчинах с серьёзными заболеваниями, мы часто обнаруживаем, что заболевания наподобие сердечного приступа возникают на том этапе, когда беспрестанное стремление добиваться всё большего за всё меньшее время становится наиболее фрустрирующим и неблагодарным (Friedmann & Rosenman, 1974). Тем не менее мужчины зачастую испытывают сложности с тем, чтобы позволить себе регрессировать достаточно долго, чтобы адекватно восстановиться. Выглядит так, будто они чувствуют, что кратковременное послабление себе приведёт к полной потере контроля над жизнью, и желанные цели окажутся недостижимыми (Weiner, 1976a). Одна из желанных целей, от которой необходимо отказаться, – иллюзия вечной жизни. Сердечный приступ может стать сильным ударом, который пробуждает мужчин к осознанию факта, что они не будет жить вечно и что качество жизни важнее, чем количество материальных благ, которые они могут накопить.
Пережив отрезвляющее действие менопаузы, болезни и смерти родителей, взрослые среднего возраста переходят в поздний взрослый возраст.
Эрик Эриксон описывает центральную задачу этой стадии жизни как интеграцию против отчаяния. Это ощущение осмысленно прожитой жизни и возникающий перед ними вызов продолжить осмысленную жизнь. Поздний взрослый возраст начинается, как только состояние физического и эмоционального спада заставляет отказываться от многих видов деятельности.
Биологически пожилые люди страдают от моторных и сенсорных нарушений. Кости и мышцы ослабевают. Суставы теряют эластичность. Вкусовое, обонятельное, зрительное и слуховое восприятие начинают подводить, а скорость научения и острота памяти снижаются. Как и в раннем детстве, всё незнакомое начинает пугать и дезориентировать. Сексуальное влечение снижается, но пожилые люди в целом продолжают сексуальные отношения, пока они и их партнёры сохраняют здоровье (Busse & Blazer, 1980).
Начиная со среднего взрослого возраста, многие люди чувствуют потребность в определённом порядке и предсказуемости в образе жизни. В позднем взрослом возрасте порядок и предсказуемость становятся ещё важнее, поскольку у пожилых людей снижается способность физически или психологически адаптироваться к изменениям. Часто состояния дезориентации возникают, когда пожилые люди с лёгкой деменцией меняют место жительства или попадают в незнакомое окружение, например в больницу, поскольку теряют контакт со знакомыми сенсорными стимулами.
Психологическое состояние пожилых зависит от интактности тела и мозга и от способности подстраивать своё окружение к их потребностям. Беспомощные, инвалидизированные старики могут впадать в отчаяние и чувствовать бессмысленность жизни, особенно если инвалидизация ведёт к социальной изоляции. Пожилые инвалидизированные люди, которым удалось развить хорошие социальные навыки и широкий спектр интересов, часто сохраняют бодрость духа.
В нашем обществе старики склонны оказываться изолированными от молодых людей. Часто их вынуждают выходить на пенсию в возрасте 65 лет. Их дети уезжают и создают дом в других частях города или страны, и из-за растущей слабости старики неспособны путешествовать, чтобы быть со своими семьями. Те, у кого есть собственное жильё, постепенно теряют возможность поддерживать дом в порядке и переезжают в места, где для них и других стариков организованы защищённые условия жизни, ещё более отдаляясь от целенаправленной деятельности и мейнстрима жизни. В беседах с пожилыми людьми я обнаружил, что их главный страх касается не смерти, а беспомощности и изоляции в мире безразличия.
Старики, которые оказываются в благоприятной ситуации, сохраняют высокий уровень активности и вовлечённость в жизнь окружающих. Этого достаточно, чтобы чувствовать, что их жизнь имеет значение для других людей или подчинена высшей цели.
Смерть завершает цикл жизни. Для зрелого пожилого человека это ожидаемое и иногда желанное избавление от испытаний и тревог жизни (Roberts, Kimsey, Logan & Shaw, 1970).
9
На английском языке – Suppression (Прим. ред.).