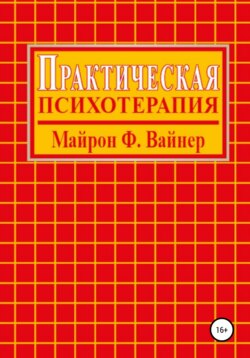Читать книгу Практическая психотерапия - Майрон Вайнер - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1
Введение
ОглавлениеВ течение многих лет психотерапию практиковали как более дешёвый вариант психоанализа – как попытку стимулировать инсайт касательно бессознательной динамики и разрешить бессознательные конфликты посредством интерпретации переноса (Langs, 1973), зачастую с пациентами, которые не могут позволить себе, не хотят или по другим причинам не подходят для проведения психоанализа. Многие терапевты преследуют психоаналитические цели, не пользуясь психоаналитической техникой и с пациентами, по тем или иным причинам не способными либо не желающими воспользоваться психоаналитической помощью.
Существует множество эффективных техник для лечения психологически обусловленных симптомов, которые не требуют инсайта бессознательных мотивов (Karasu, 1977). Тревога перед выступлениями, фобии и компульсивные формы поведения могут быть модифицированы поведенческими методами; импотенция[4] и преждевременная эякуляция – посредством образования и изменения сексуальных практик. Несмотря на эти открытия, часто полагают, что, хотя для излечения определённых симптомов инсайт может быть не нужен, это всё же лучший способ, и без инсайта склонность к повторному возникновению симптомов остаётся неизменной.
На самом же деле поведение никогда не бывает только поведением – в нём всегда задействованы мотивы, чувства и мысли. Тем не менее (а вернее, именно поэтому) порой с поведением необходимо работать напрямую, обращаясь или не обращаясь к причинам, лежащим в его основе.
Практическая психотерапия отличается от «разбавленной» формы психоанализа. Она сбалансированным образом инкорпорирует неаналитические интервенции, не утверждая при этом, что какая-либо интервенция по своей сути более ценна или целительна, нежели другая.
Практический подход признаёт, что на мысли, чувства и поведение влияют бессознательная мотивация и конфликт, но не считает разрешение конфликтов с помощью инсайта в качестве основного или, как это чаще преподносится, лучшего способа работать с симптомами, являющимися следствием противоречивой мотивации или внутреннего конфликта. Психоаналитические концепции психосексуального развития, фиксации и регрессии в лечении пациентов очень важны, но регрессию не всегда необходимо обращать вспять, так же как и не всегда необходимо преодолевать фиксацию. И фиксация, и регрессия зачастую преодолеваются иными средствами, нежели интерпретация.
Практичность требует от клинициста делать такие заключения о личности пациента, которые позволят ему строить и фокусировать свою терапевтическую активность. Терапевты направляют ход терапии во взаимодействии с пациентами, иногда следуя чувствам и мыслям последних, но терапевты часто сами «ведут» пациентов, фокусируя их внимание на их мыслях, чувствах, поведении или внешнем мире. Признавая, что каждый человек в какой-то мере создаёт собственную реальность своим поведением и восприятием мира, практические терапевты принимают во внимание потребность адаптироваться к определённым жизненным ситуациям, которые могут быть временными, но могут оставаться неизменными годами и десятилетиями.
Хотя они и фокусируются на конкретном пациенте, терапевтам не следует ограничивать свою работу взаимодействием только с ним. Если пациент не может изменить своё окружение или себя, терапевт может вовлечь широкую социальную сеть пациента, с тем чтобы помочь человеку «вырасти» из тупика, в котором он оказался, и успешнее адаптироваться. Терапевтам необходимо сохранять в себе открытость по отношению к пациентам и понимание, что и люди, и мир вокруг них постоянно меняются. Им также необходимо осознавать, что одни и те же типы проблем могут требовать разных подходов в разных контекстах.
Практический подход означает понимание того, что во многих людях существует естественное стремление к здоровью, но в актуализации этого стремления практический терапевт полагается больше на техническую компетентность, нежели на такие качества своей личности, как эмпатия, безусловное позитивное принятие и конгруэнтность[5].
Прежде всего практический подход признаёт парадокс, напрямую связанный с необходимостью одновременно воспринимать людей как индивидуумов и определять синдромы, которые отвечают на специфические виды лечения. Соглашаясь с необходимостью в синдромальной диагностике, терапевты также фокусируются на динамических элементах, которые вносят вклад в формирование этих симптомокомплексов. Таким образом, терапевты понимают, что конкретный кластер симптомов может обретать новые грани и ответвления и меняться в другой кластер симптомов прямо у них на глазах. Терапевтам, таким образом, для проведения эффективной терапии нет необходимости всегда проводить окончательную диагностику. Терапевтам необходима рабочая гипотеза, которая соответствует текущим признакам и симптомам и ведёт к продуктивному терапевтическому взаимодействию.
Практическая ориентация означает, что терапевт признаёт биологические, социальные и психологические переменные, которые влияют на психику; подход практического терапевта включает лекарственное лечение, воздействие на среду и работу с внутрипсихической жизнью и межличностной сетью пациента, как проиллюстрировано в следующем клиническом примере.
Миссис А. Р. впервые оказалась в больнице после попытки суицида путём передозировки антидепрессантов. Она была вдовой, которая менее чем за год до этого повторно вышла замуж. Её симптомы начались с внезапного начала бессонницы за шесть недель до госпитализации. У неё пропал аппетит, и она в течение этих недель потеряла около 5 килограммов. Её врач на основании симптомов диагностировал у неё депрессию, назначил антидепрессанты, и она приняла повышенную дозу.
На первой консультации терапевта она была в тяжёлой депрессии с идеями самообвинения, но осталось впечатление, что у неё есть некоторый инсайт по поводу своих трудностей. Она приписывала своё расстройство событиям, которые последовали после её второго замужества. Она переехала в более крупный город и покинула социальный круг и работу, которая поддерживала её в течение многих лет после смерти первого мужа. Она переехала в дом, который не выбирала и который ей не нравился, и обнаружила, что она со своим новым мужем не могла общаться так же открыто, как она общалась со своим первым мужем. Также она чувствовала, что не могла соответствовать стандартам, установленным покойной женой своего мужа, которую он описывал окружающим как святую женщину.
Поскольку её психика обладала множеством сильных сторон, а в предыдущем анамнезе не было психических нарушений, если не считать лёгкой депрессии после смерти первого мужа, её лечили амбулаторно трициклическим антидепрессантом и снотворными препаратами, а также она дважды в неделю посещала психотерапевта.
Она обсуждала конфликтные ситуации с мужем и некоторые другие эмоционально сложные моменты, связанные с её новым браком. Её настроение улучшилось, и через шесть недель она снизила частоту сеансов до одного в неделю. Через шесть месяцев после начала лечения её настроение стало менее стабильным, а попытки работать в направлении развития инсайта, казалось, вели к опасному усугублению её самокритики. Примерно через год терапии, предвосхищая серьёзную негативную реакцию на близящуюся годовщину её суицидальной попытки, её перевели с трициклического антидепрессанта на ингибитор моноаминоксидазы. Через две недели её симптомы снизились и настроение стабилизировалось. Она стала приходить реже и через 16 месяцев терапии прекратила посещать психотерапевта.
В следующий раз миссис А. Р. обратилась за помощью через примерно полтора года после последнего визита. Она жаловалась на панику, депрессию и испытывала трудности со сном, а также в течение недели её посещали суицидальные мысли. Через две недели психотерапии и лечения антидепрессантами у неё оставались суицидальные тенденции. Её госпитализировали, чтобы обеспечить возможность более пристального наблюдения, проведения средовой терапии и безопасного назначения более высоких доз антидепрессантов. Через пять недель лечения в стационаре, в течение которых дозы антидепрессантов были повышены до максимума, а психотерапевтические беседы были направлены на то, чтобы помочь ей справиться со своими чувствами по отношению к себе, своим детям и супружеской ситуации, ей не стало лучше. Её перевели в другую больницу на три недели, где провели шесть сеансов электросудорожной терапии. На две недели её симптомы полностью прошли, после чего она вновь сообщила о возвращении неприятных чувств. В то время вместо повторения электросудорожной терапии или назначения антидепрессантов ей предложили обсудить негативные чувства по отношению к мужу, которые копились у неё в течение двух недель пребывания дома. Она сделала это и испытала значительное облегчение. В течение последующих недель они с мужем серьёзно обсудили свои претензии и пожелания друг к другу. В особенности она упрекала его за склонность сдерживать свой гнев. Она чувствовала потребность в продолжении психотерапии лишь недолгое время, после чего закончила свой второй курс лечения примерно спустя пять месяцев.
Лечение миссис А. Р. иллюстрирует гибкое применение поддерживающей психотерапии и других типов лечебных методов, где терапевт прибегает к психотерапии настолько, насколько позволяет Эго пациента. Когда её Эго было слишком переполнено, чтобы принимать внушения или конструктивно использовать самонаблюдение или самоисследование, были использованы другие методы. В процессе она справилась со своим чувством вины по поводу злости на мужа, оплакала своего покойного мужа и свою прошлую жизнь, а также разобралась с теми аспектами своего нового супруга и новой жизни, которые ощущала как фрустрирующие, лишающие её необходимой поддержки.
4
В современной классификации – эректильная дисфункция (Прим. пер.).
5
Имеется в виду клиент-центрированный подход К. Роджерса, базирующийся на том, что эмпатия, безусловное позитичное принятие и конгруэнтность психотерапевта не только необходимые, но и достаточные условия терапевтического процесса (Прим. ред.).