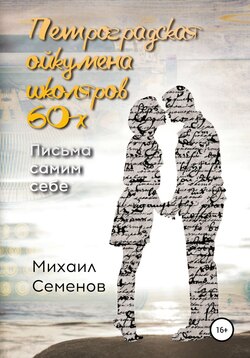Читать книгу Петроградская ойкумена школяров 60-х. Письма самим себе - Михаил Семенов - Страница 4
1. Петроградские маршруты прогулок школяров 60-х
1.1 Идет направо – песнь заводит…
ОглавлениеК первой цели мы непременно направлялись в сторону Ботанического сада, ведь сюда ходили еще с группой детского сада в середине мая и теплой сентябрьской осенью. Тогда дружно, вдоль трамвайных путей топали по ул. Петропавловской до одноименного деревянного 3-х пролетного моста через Карповку. Он располагался по оси улицы. Подобный деревянный мост (Гренадерский) на ряжевых опорах от «устья» Карповки утыкался в «Выборгский» берег в створе Сампсониевской церкви.
Карповка, конечно, не река, а одна из протоков дельты Невы, да и карпов тут отродясь не водилось (версия – Карпийоки (фин.), лесная болотистая речушка). Мы вглядывались сверху в толщу её темных, опутанных колышущимися водорослями вод. Гранитной облицовки берегов еще не было. Плавным мутным шлейфом из выпуска трубы изливались сточные воды, у её оголовка деловито сновали хвостатые пасюки, в них мы бросали специально захваченные с собой камешки. Порой, к нашему восторгу, с грацией Кентервильского привидения выплывало и бледное «изделие № 2». Видимо, что-то об их назначении мы тогда уже знали.
Школярами же к этому мосту часто добирались по территории городка больницы им. Эрисмана и 1-го Меда. Раньше больница называлась Петропавловской, и это чудом сохранило название улицы. Здесь росло много старых дубов и кленов. Осенью набивали карманы зелеными лаковыми желудями. На выходе с территории (или на входе, если с улицы) стоял домик вахты. Ворота открывались только для служебных автомобилей. Тут же было больничное справочное.
В Ботанический сад обычно старались проникнуть сквозь раздвинутые прутья забора со стороны Карповки. Перед этим всегда любовались рядком пришвартованных катеров и лодок со стороны Гренадерских казарм. Стоянка-элинг была, похоже, ведомственная, многие владельцы, видимо, отставники, часами с неугасаемой нежностью ухаживали за своими любимцами. Кто-то был в флотской пилотке, кто-то в поношенном кителе, и всегда в тельняшках.
В Ботаническом уже знали место, где осенью созревал северный (может, районированный сорт) виноград, ягоды были небольшие, и достаточно сладкие. Нас, конечно, гоняли, но пару гроздей удавалось с собой прихватить.
Через территорию сада мы выходили к ЛЭТИ на ул. Проф. Попова. Его главный корпус в виде средневекового замка производил впечатление. Тут хотелось учиться. У счастливчиков так и случилось. Старшая сестра соседа-одноклассника на последнем курсе ЛЭТИ вышла замуж и переехала к мужу. В её освободившейся 9-ти метровой комнатушке помещались диван и однотумбовый ученический стол. Мальчишка занял «по наследству» эти хоромы и, разбирая опустевшие ящики стола, обнаружил блокнот, заполненный аккуратным девичьим почерком. Текст оказался предсвадебной «инструкцией», конспектом-подсказкой, из Камасутры. Так произошло наше первое, пусть и теоретическое, «крещение» в этих «запретных» вопросах.
На территории института обращали внимание на сохранившуюся часовню или небольшой храм. На двери висела табличка, вроде – «метрологическая лаборатория». Хорошо, что не хранилище швабр. В вестибюле построенного позже корпуса 2, теперь «С», уже в студенческие годы разрешались (к праздничным датам) рок-вечера. Более «забойных» исполнителей и аппаратуры я не слышал в те годы ни в Политехе, ни в 1-м ЛМИ. Знакомство или просто разговор тут из-за громкости были невозможны, но энергетика и драйв зато сполна заменяли прочие стимуляторы.
Далее, бывало, выходили на набережную Б. Невки, тут притягивал неясный нам, «тайный» в своем запустении обелиск. Это теперь мы знаем, что он установлен на месте дачи Петра Столыпина, где на него покушались революционные террористы. Наверное, вероятен и «заказ» его политических оппонентов. От взрывов погибли люди, младшая дочь лишилась ног. Каким чудом он простоял тут, пережив советский период страны? Что знали мы о Столыпине в школе? Разве что – «столыпинский галстук», так его недоброжелатели называли тогда виселицы. А стремительный рост экономики страны в результате его реформ – так это досадные мелочи, то ли дело «Беломорканал»!
Другой дорогой по Аптекарскому проспекту доходили до любимого «своего» стадиона «Медик». Он бывал и «Зенитом» и «Буревестником». Располагался в обрамлении старых кленов, что золотились с середины сентября. А с конца апреля на его просохших гаревых дорожках появлялись бегуны, еще с улицы слышался звон футбольных мячей. Легкой атлетикой здесь занимались и несколько наших школяров. Помню одноклассника Петра Малышева, его рельефные натруженные мышцы ног, выпуклые от тренировочных нагрузок вены. Зимой заливался каток и беговые дорожки, сияли гирлянды лампочек. Позже рядом с полем построили 2-х этажный спортивный корпус. Тут занимались взрослые и дети. Одним из «звезд» Петроградской той поры в памяти остался тренер спортивной гимнастики Михаил Алексеевич. Этот уже немолодой, рыжеволосый, с выправкой бывшего спортсмена простой «дядька» делал чудеса из своих непослушных питомцев. Он звал их ласково, как своих: Сашка, Федька, и дети его обожали, потому старались, преодолевали себя. В 90-е стадион приватизировали, секции ликвидировали. Как-то на Левашовском пр., напротив ДК им. Ленсовета увидел у овощного уличного прилавка знакомую рыжую шевелюру. Он сидел на ящике сбоку, возможно, караулил в отсутствие продавца. Я окликнул его по имени, напомнил о своем мальчишке и тех тренировках. Он молча, будто виновато, долго вглядывался в мое лицо, а на его небритой щеке застыла слеза.
Рядом со стадионом высилась «новая» телебашня, какое-то время она была одной из самых высоких в Европе. Стояла и прежняя башня на ул. Проф Попова. Старшие школяры еще застали период строительства новой, почти одновременно строилось и метро Петроградская. Кто-то из парнишек вечерами пробирался на их стройплощадки и притаскивал оттуда крупные болты и гайки для самостоятельного изготовления опасной пиротехники.
Неподалеку тогда работали несколько заводов медицинского и фармацевтического профиля. Для их сотрудников на стадионе проводились спартакиады и межзаводские соревнования. После приватизации часть заводов оказались полузаброшенными, какие-то цеха и помещения сдавались в аренду. Тут случайно встретил знакомого школяра (учился у нас 2–3 года). Он, став «молодым» пенсионером, наладил в одном из бывших заводских гаражей кузнечную мастерскую. Обзавелся необходимым оборудованием. Оказалось, после школы и армии Юра закончил техникум, проработал на заводе, мечтая о ранней пенсии для возможности заняться творчеством. Специально для этого выбирал «вредное» производство: гальванический и горячие цеха. Вначале начал мастерить каминные наборы, затем оградки на кладбища. Делал их со вкусом, художественно, предпочитал стиль модерн. Эта работа свела его со многими питерцами, в т. ч. художниками. С ними он любил часто «посидеть», стал своим, близким в этих богемных кругах. Кто-то (обычно безденежные родственники) за его работу рассчитывался живописью, иногда и старой. Стала складываться серьезная коллекция. Её пополнили этюды Хаима Сутина, Павла Филонова, затем два небольших «масла» Рериха. Жена сердилась, не видела в этом прока, ждала «живых» денег. Дошло до развода, да и как могли уживаться два пассионария. Но любовь осталась, и они продолжали жить в одном доме, теперь «свободными», а их взаимная привязанность и чувства от этого заиграли новыми гранями. Да разве забудешь, как он молодым парнем, чтобы её покорить, предложил совместную поездку к южному морю… на своем мотоцикле: 2 тыс. км. туда и столько же обратно. Как тут было устоять.
Проходя по ул. Проф. Попова в сторону Каменноостровского, обращали внимание на необычный здесь, в окружении кирпичных зданий, 2-х этажный деревянный дом в усадебном стиле. На стене была табличка – что-то о Вс. Вишневском. Нам он был тогда неизвестен, в школе не изучали, наверняка с заслугами перед революцией, как иначе. Поэтому, между собой его так и называли – дом Вишневского. Мы не были бы мальчишками, если бы не забрались во двор этого дома, с той стороны его мало кто видел. Дом с верандой во двор оказался бывшей дачей купца Балашова, сменил ряд владельцев и еще перед революцией, по воле последнего – Михневича стал пристанищем питерской богемы, творцов авангарда: писателей, художников. Кто-то здесь жил, порой, бесплатно, кто-то работал. Здесь бывали Вел. Хлебников, П. Филонов. Работы Филонова загадочны и трудны для прочтения, ждут адекватной аналитики. У меня образы его живописи всплывают каждый раз при чтении романов Андрея Платонова – «Котлован», «Чевенгур», «Город Градов». Судьбы Филонова и Сутина оказались чем-то похожи. Почти ровесники, первый остался в новой России и, даже лишенный пенсии, пытался вплетать свой труд в энергетический вихрь «нового» мира, второй покинул Россию еще до революции. Умерли почти в одно время, почти одинаково от голода. Да также, как и друг Филонова Вел. Хлебников. В последний путь ушли совсем без проводов и почестей. Первого оплакала лишь сестра, на похороны Сутина во Франции пришел лишь Пикассо. Нынче в этом доме, отстроенном заново новоделе, располагается музей Петербургского авангарда. Как драматичны порой были судьбы его творцов.
Наш путь дальше продолжался к Лопухинскому саду (тогда Дзержинского). Замечательный особняк-дачу купца Василия Громова занимал в ту пору Дом пионеров и школьников (ДПШ) Петроградского района. Из окон раздавались звуки рояля и скрипки. В теплое время года в саду работали ученики студии ИЗО, кто с этюдником, а кто и просто с фанеркой на коленях, с приколотым листом бумаги. В пруду сада, а скорее – ландшафтного парка, захватив удочки, можно было выловить несколько колюшек или плотвичек, просто так, для интереса.
Возвращались домой обычно по Кировскому проспекту. Вечером загорались шары уличных фонарей в виде карточных «крестей», сияли витрины магазинов. Словно красивые девушки, своими формами и декором притягивали взор особняки Вяземского и Игеля, тогда там обосновались советские партейцы Ждановского района, а когда-то в пристроенном к особняку знаменитом ресторане Игеля – «Эрнест» бывали Шаляпин, Чехов, Горький и Куприн. Возле Карповки жемчужиной смотрелся особняк Покотиловой. Казалось, что там была стоматология, ан нет – КВД. Не так «почетно»? Зато унизили барыню по полной, пусть и «вдогонку». Особо любовались мы витриной булочной, что была почти напротив мебельной фабрики у Пионерского моста. Вся её экспозиция состояла из фигурок, выпеченных из теста. Это был высший пилотаж как художественного, так и пекарского мастерства, ведь даже щечки персонажей сияли подрумяненой корочкой. После дождя мокрый асфальт тротуаров мягко, с расфокусом отзеркаливал огни машин и светофоров. Проходили мимо рампы кинотеатра «Приморский» ДК Ленсовета. Изучали афишу детских утренников на ближайший выходной. Затем, перейдя Кировский, всегда задерживались у «живой» витрины рыбного магазина, вот уж где были карпы! Сворачивали к кассам нашего «Арса»: а что покажут и там воскресным утром? В завершение, проходными дворами или нашим сквером «рассыпались» по дворам своих домов, на ходу придумывая, как объяснить свое столь длительное отсутствие.
Эти места и маршруты Петроградской, конечно, не были забыты и в юности. Часто вспоминаю майскую грозу с сильным ливнем, заставшим 2-х молодых людей в попытке укрыться под кроной раскидистого клена, рядом с жилым домом, построенном на территории Ботанического сада для сотрудников. Положение было безвыходное, оставалось только наперекор стихии крепче обняться в очередном поцелуе. Кто жил в этом доме в то время – уже не восстановить. А ведь случилось просто чудо и оно стало судьбоносным, как расценить иначе. Представьте – открывается окно на бельэтаже, и приятный женский голос приглашает к себе в дом, переждать стихию. Мокрые босоножки из переплетенных тонких красных ремешков вешаются для просушки над газовой плитой. На стол подается свежеиспеченная ватрушка с теплым молоком. Провожая после дождя, вас приобнимают и желают счастья.
Сколько хороших людей и, порой, даже совсем незнакомых, желали нам в жизни добра и счастья. И как после этого не быть счастливым? Спасибо им всем.