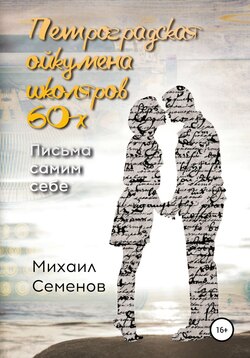Читать книгу Петроградская ойкумена школяров 60-х. Письма самим себе - Михаил Семенов - Страница 6
2. Наша Ойкумена
2.1 Улица Рентгена
ОглавлениеЭту небольшую улицу Петроградской, бывшую Лицейскую, а с 1923 года носящую имя немецкого физика Вильгельма Рентгена, мы ощущали своей с раннего детства, еще в детсадовской группе на прогулках. Гуляя, наблюдали как, вроде, неспешно строились кирпичные дома на ее ранее пустых участках, на углу улицы Льва. Толстого и продолжения улицы Рентгена в сторону Невки. Топая тут, мы уже чутко улавливали по запахам, звукам, архитектуре, функционалу строений своеобразие и отличия отдельных ландшафтных участков и зон такой камерной, тогда почти пустынной улицы большого города. Остатки имперской столичной роскоши: бывший дом воспитателей Лицея, дом Эйлерса, особняк С. Чаева, здание бывшей больницы Общества гомеопатии соседствуют с советскими строениями стиля сталинского неоклассицизма. Тут же располагались производственные корпуса и территория завода «Пирометр». За ними бывший доходный дом № 7, поскромней. Было много зеленых зон, как парковых, где ныне сквер Федора Углова, так и естественных, запущенных. Заводскую территорию и один из корпусов Радиевого института разделяла зеленая зона (часть бывшего Лицейского парка), отгороженная от улицы глухим деревянным забором с калиткой. Рядом находилась кнопка звонка. В глубине – одноэтажное деревянное строение и будка сторожевого пса. На улицу из-за забора свешивались ветви старых древовидных плакучих ив. На другой стороне улицы, между Рентгеновским институтом и спортивной площадкой школы, где мы любили погонять мяч, было просто вольное запустение: поляны с высокими травами и ковром ярких одуванчиков весной, а также несколько старых яблонь, всегда много бабочек и птиц. Иногда, при соответствующем ветре, тут даже были слышны звуки поездов и гудки паровоза, ведь за Невкой, поблизости, проходили железнодорожные пути Финляндского вокзала. Перед памятником Рентгену росли старые одеревеневшие кусты боярышника и персидской сирени. Пряное и горьковатое цветение боярышника к концу лета празднично одаривало кусты красноватыми лакированными плодами.
Но «обживать» нашу улицу по-настоящему мы стали вступив во «взрослую», школьную пору. За улицей Л. Толстого, буквально до Гренадерских казарм, располагался огромный пустырь. На топографических картах подобные территории обозначают термином – «изрыто». Ведь так и было, кругом овраги да воронки. До жилых домов далеко, поэтому бегали туда озорничать. Жгли костры, пекли в золе принесенную из дома картошку. Где-то на территории 1-го Меда раздобыли ящики с пустыми медицинскими пузырьками и били их из рогаток и пневматики. Однажды, кто-то постарше привез с мест боев на Карельском перешейке, скажем так – опасные изделия. Бросали их в костер и наблюдали канонаду. И как говориться – Бог миловал. Позже тут началась стройка корпусов клиник профессоров Углова и Колесова. Территорию обнесли забором, а, чтобы снаружи было интересней, чем внутри, по линии забора установили пивной ларек. Нас привлекала возможность, постояв в небольшой очереди, побыть в обществе «предвкушающих» взрослых, почувствовать энергетику этого, пусть и специфического, но мужского «братства». Здесь мы впервые в холодный период попробовали пиво с подогревом. Его наливали по просьбе, напиток действовал мягко и быстро. Стоило это удовольствие тогда 11 копеек за маленькую кружку, большую выпить еще не могли.
В новом доме на углу с улицы Л. Толстого, постройки года 1957–59-го жил с родителями наш одноклассник. Этот красивый 5-этажный дом позднесталинской архитектуры почему-то не имел лифтов и тоже оказался «коммунальным». В трехкомнатной квартире жили три семьи. В коридоре на стене висел график уборки общих мест. Перед первым школьным Новым Годом в конце второй четверти меня отпустили одного вечером к другу, чтобы вместе изготовить елочное украшение – «китайский» фонарик из цветной бумаги. Обратно шел в валенках по нашей заснеженной пустынной улице, в руках пакет из старой газеты с рукотворным фонариком. Тогда и в это позднее время на улице было безопасно. Шел мимо заводского корпуса, работа кипела, видимо, – вторая смена. Зарешеченные окна на первом этаже были приоткрыты, между рам стояли стеклянные полулитровые бутылки молока, женщины в рабочих халатах и косынках, весело переговариваясь, выставляли на поддон готовые изделия. Мягко «отфыркивались» прессы, пахло горячей пластмассой. На это техногенное вторжение в ландшафт нашей тихой улицы мы тогда не сердились. У многих близкие работали на заводах «Вибратор», «Пирометр», «Полиграфмаш», содержали семьи, укрепляли страну.
В соседнем, бывшем доходном доме с элементами «былого благородства» на фасаде, жили несколько ребят из нашей школы. Одноклассник с родителями и старшей сестрой занимали комнату, тоже коммуналки, на первом этаже с окнами на улицу Рентгена и школу на противоположной стороне. В этой школе в ту пору организовывали избирательный участок для нашего микрорайона. На выборы старшие всегда брали нас с собой, и там обязательно покупалась какая-нибудь недорогая детская книжка, например, «Сказка о золотом петушке» Пушкина или с рассказами о животных и иллюстрациями Чарушина, который, как оказалось, тоже одно время жил в этом доме. Отец школяра работал поваром в кулинарии на Большом, что находилась в полуподвале, по диагонали напротив кинотеатра «Молния». Помните такой продукт как отварная курица. А куда девался бульон? Правильно, приятель с двухлитровым алюминиевым бидончиком, иногда по просьбе родителей, приходил туда «заправиться» – не пропадать же добру!
К сожалению, было на нашей улице и одно неприятное место, «серая зона». Нежилое здание, которое мы старались обходить по противоположной стороне улицы. Тогда там располагался виварий с подопытными собаками. Они сутками безнадежно скулили и заходились в хриплом лае. Это место представлялось нам прибежищем темных сил, будто пыточный застенок.
Наша улица в те годы не имела сквозного проезда транспорта, да и машин было мало. Поэтому многие прямо на улице обучались езде на велосипедах, роликах, а кто-то позже и на мотоциклах. Из общественных заведений была сберкасса в доме № 6, да небольшой гастроном на углу ул. Л. Толстого. Он запомнился тем, что в самые проблемные 90-е годы в нем часто можно было купить хорошей ветчины. Тогда это казалось просто чудом.
Рассказывая о своей улице, было бы логично поддержать планку пафоса, как «счастья проживания» на родной улице… Однако, ее название именем Рентгена оказалось, к сожалению, не случайным и таило опасность. Во дворе дома № 2 в 70-е годы внезапно возникло глухое ограждение, закипели какие-то земляные работы. Рабочие пояснили, что проводилась выемка радиоактивных материалов и дезактивация грунта. На эти территории, тогда на послевоенный пустырь, незадачливые сотрудники РИАНа, предположительно, выливали и закапывали «отходы» проводимых экспериментов. А почти 20 лет здесь жили люди, играли дети. Вспомнилась бетонная плита, возможно, могильника отходов на территории института Рентгена. Мальчишками мы беспрепятственно лазали через их забор и в мусорных баках отыскивали пластины свинцовой защиты для использования в своих рыболовных снастях. Экраны же тогдашних домашних телевизоров чутко реагировали внезапной мелкой рябью на включение циклотрона – гордости института той поры. Одним словом, прожили долгие годы на нашей Лицейской почти как «сталкеры» у Стругацких. И то, что многие до сих пор, вроде как, в здравии, уже удивительно.
Пару слов о названии улицы и памятнике Рентгену. Современное название присвоено в 23-м году, в том числе «в связи с расположением в доме № 1 Радиевого института (РИАН)». А ведь радием и радионуклидами тогда занимались прежде всего супруги Кюри. Но оказались французами, а Резерфорд – «как назло» англичанином. Зачем тогда «категорически» понадобился немец? Похоже, это был политический реверанс, один из сюжетов той политики, что оказалась недальновидной и катастрофически ошибочной. Конечно, сам Рентген не виноват и его бронзовая голова «сумрачного» гения бесстрастно взирает на нас и сегодня. В одноименном рассказе о нашей улице, написанном в Блокадном городе в 1942 году поэтессой Верой Инбер, как оказалось, племянницей Льва Троцкого, Вильгельм Конрад вообще «наш» парень. И даже, пустивший символическую слезу из тающего на его бронзовой голове мартовского снега по убитым тут вражеским снарядом нескольким Блокадным мальчишкам. Они собирали неподалеку щепки для обогрева жилищ. Но, понятно, что написать иначе тогда было невозможно.
Нашлось у Веры Михайловны и неплохое стихотворение, которое напомнило одну памятную лирическую тему нашей улицы из жизни моего школьного товарища и соседа по дому. Вот оно:
«Уехал друг. Ещё в окне закат,
Что нам пылал, не потускнел нимало,
А в воздухе пустом уже звенят
Воспоминаний медленные жала.
Уехавшего комната полна
Его движеньями и тишиною,
И кажется, когда взойдёт луна,
Она найдёт его со мною»».
Мысленно адресую эти строки избраннице друга тех школьных лет. И об этом поподробнее. В «позднесталинском» доме № 11, стоящем в углублении, рядом со стоматологической поликлиникой, жили две симпатичные девчонки из нашей школы. В одну из них товарищ был, похоже, не на шутку влюблен. Эти юношеские годы их дружбы, трогательного взаимного кружения и сближения я наблюдал со стороны. Помню его счастливые сборы на встречу с ней, на другой конец нашей улицы, сквозь волшебное благоухание в мае куртины персидской сирени за оградой института Рентгена. Древние Кельты, знатоки растительного мира, считали, что аромат сирени переносит нас в неземной мир, обитаемый богами. Помните романс Рахманинова «Сирень»:
«в жизни счастье одно
мне найти суждено,
и то счастье в сирени живет…»
Они были моложе на пару лет, и, что произошло уже без нас, выпорхнувших из школы во взрослую жизнь, я не узнал. Вероятно, их пути по какой-то причине драматично, а может, легкомысленно разошлись. Разумеется, со временем образовалась новая жизнь, «как у всех». Но друг, похоже, тихо безутешно затосковал, и зеленый змий, частый соучастник подобных невидимых драм, долго не церемонясь, поставил точку в этом жизненном тупике.
Что нужно человеку в жизни, что составляет его счастье и что это за субстанция? Это, наверное, состояние, как опять у Рахманинова в другом романсе:
«…здесь нет людей… (конечно чужих)
здесь тишина…
здесь только Бог и я…»
Вот и не гневите Бога – «с любимыми не расставайтесь». Тем более, если все это случается на своей, родной и дорогой улице детства.