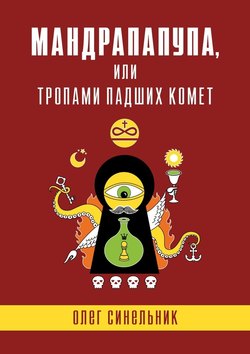Читать книгу МАНДРАПАПУПА, или Тропами падших комет. Криптоапокриф северо-украинской традиции Непонятного - Олег Синельник - Страница 5
Маска мастера
ОглавлениеДело было в конце 70-х, в опустевшей к вечеру редакции «Черногона», располагавшейся тогда в здании на Свердлова, около Драмтеатра. После работы Стожар калдырил в кабинете с приятелями – фотографом и двумя журналистами. Окна их помещения выходили на гостиницу «Десна» с одноимённым кабаком. Смеркалось, но поддатые компаньоны по причине конспирации свет не зажигали. А в тёмном здании напротив ярко сияло окно кабинета директора упомянутой ресторации. Поэтому, когда там замаячила тучная фигура, зоркий глаз художника узрел, как она озабоченно копошится у себя в расстёгнутых брюках.
Схватив справочник, Гога тут же нашёл нужный номер телефона. В кабинете директора гостиницы раздался звонок.
– Чего раскорячился, болван? Запри матню! – пророкотал из трубки незнакомый голос. На лице хозяина кабинета отразился ужас. Кто?! Откуда!? Как узнал?!
Ещё пару раз там же, в кабинете художника, происходили аналогичные сходки – в ожидании повода, чтобы вновь разыграть незадачливого директора. И на третий вечер дождались.
В окне напротив вспыхнул свет, лоснящийся толстячок открыл сейф, достал бутылку вина и стакан. Налив до краёв, он поднёс живительную влагу ко рту и даже зажмурился в предвкушении долгожданной прелести первого глотка.
Тишину взорвал резкий звонок телефона, от которого директорская рука нервно дёрнулась, оросив вином белоснежную рубашку и дефицитный итальянский галстук, подаренный любовницей на день ангела, совпавший с годовщиной их совместного отдыха в областном профилактории «Бегач».
– Опять бухаришь в одно рыло? Почему не позвал друзей, мудозвон? – спросил из трубки грозный бас Стожара.
Хозяин кабинета удивлённо огляделся по сторонам. И тут до него наконец-то дошло. Он повернулся к тёмному редакционному окну, погрозил кулаком невидимым шутникам и демонстративно осушил свой стакан.
Это лишь одна из множества историй, подтверждаемая участвовавшими в ней работниками редакции. А всевозможных домыслов и слухов, один удивительнее другого, витавших вокруг этой колоритной личности, было столько, что теперь, спустя несколько десятилетий, уже не представляется возможным отделить правду от вымысла. А хотелось бы попробовать. Но вот проблема: как проверить факты на достоверность? Одни участники тех событий спились и умерли, другие эмигрировали и следы их затерялись в каменных джунглях.
Доподлинно известно, что с 60-х годов Гога был близко знаком со многими из когорты властителей дум своего поколения. Он регулярно навещал этих людей в Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе, вёл с ними переписку, созванивался. Иногда они приезжали к нему в Чернигов. Но такие визиты Стожар почему-то никогда не афишировал. Когда один из его близких друзей, журналист Максим Борисыч однажды попытался узнать больше положенного, Григорий его попросту отбрил:
– Кого видел, меня что ли? С кем, говоришь?.. А-а… Кроме тебя кто ещё видел?.. Понятно… Ну, были и уехали… Чего приезжали? А чёрт их знает, этих москвичей…
Так в чём же заключалась его загадка?
Он был одним из столпов черниговской богемы. Родился в один день с Леонардо да Винчи, но с разницей в 500 лет. Неудержимый, могучий, бескомпромиссный, остроумный, саркастичный, грубый, гордый и в то же время – добрый, ранимый, сентиментальный, отзывчивый, заботливый, щедрый, искренний.
Его одноклассники рассказывали мне, что уже со школьных лет Гриша не боялся отстаивать право на свободу проявления своей бурной натуры. Впоследствии он демонстративно реализовывал это право, дерзко ведя себя на допросах в КГБ, куда его неоднократно вызывали (а, случалось, доставляли насильно) то в связи с его резкими высказываниями в адрес кремлёвских властителей, то за участие в прогремевшей на весь мир «Бульдозерной выставке», то из-за неофициальных экспозиций его работ, устраиваемых в Москве сотрудниками зарубежных посольств – капиталисты, кстати сказать, чуть ли не оптом брали у Стожара сотни листов его шикарной графики. У провинциальных канцелярских крыс была также масса претензий по поводу его контактов с различными столичными знаменитостями: от опальных художников и подозрительных мистиков до диссидентов и представителей дипкорпуса…
Однако, по мере погружения в тему и обнаружения новых загадок возникает всё больше вопросов, на многие из которых нет ответов.
Например, почему мало кому известный в московской художественной тусовке Стожар дружил как с официально признанными всесоюзными величинами, вроде Шпаликова и Шукшина, так и с грандами советского арт-подполья? С какой целью они приезжали к нему в Чернигов? И для чего он ездил к ним в белокаменную и северную столицы? Почему он скрывал факты таких визитов даже от самых близких своих друзей?
А ведь во время таких визитов, да и после них, случались любопытные переплетения судьбоносных параллелей…
60-е годы прошлого века. Молодой художник, любимец богемы и лихой гуляка Гога Стожар отправляется в Москву, проведать своего приятеля – поэта Боба Банника, который учится в Литературном институте им. Горького. Банник уже стал притчей во языцех благодаря своему творению, написанному в апреле 65-го по просьбе классика советской поэзии Александра Твардовского, на литинститутском семинаре которого оно было единственный раз публично зачитано. Впрочем, даже посвящение 30-летию Победы не спасло сей опус от забвения на целых полвека…
Получка у солдата по три рубля на брата.
Потом ещё на закусь по рублю.
С деньгой солдат в волненьи,
он рвётся в увольненье,
а там получке той – аля-улю!
Аля-улю и ай-люлю – и трёшке, и рублю!
По улице Марата шагали два солдата
и на глаза попались патрулю.
Сказал один другому – другому, молодому:
– Ну, молодой, теперь – аля-улю!
Аля-улю и ай-люлю – попались патрулю!
Надраенный, побритый,
стоял патруль сердитый.
Седой, не молодой уже старлей,
завидев две бутылки, и не сдержав ухмылки,
потёр щеку и вымолвил: – Налей!
Аля-улю и ай-люлю – во что-нибудь налей!
Зашли они во дворик, где Яшка-алкоголик
пил вермут под счастливою звездой.
Его супруга Лёля, на почве алкоголя,
гостей встречала солью и мандой.
Аля-улю и ай-люлю – не хлебом, так мандой!
И выпили ребята, да водки маловато.
И тут швырнул червонцами старлей.
О, как они гудели! А как они глядели
в большие полушария грудей!
Аля-улю и ай-люлю – недоенных грудей!
– Гуляй, пехота наша! —
промолвил дядя Яша,
и выпил, и упал за табурет.
Старлей же отличился: в герани помочился,
и разорил тёть Лёлю на миньет…
При встрече Боб обещает познакомить Гогу с Васей Шукшиным.
Приехали – Васи дома нет. Пошли слоняться по улицам и вдруг встречают печального Булата Окуджаву. Тут же, во дворе, устраивают импровизированный футбольный матч. Вместо мяча – пустая консервная банка.
Окуджава повеселел, достал из кармана маленький блокнотик, огрызок карандаша, присел на поломанный ящик и сочинил песню «Божественная суббота», которую он вскоре посвятит Зиновию Гердту.
А потом Окуджава предлагает взять бутылку и поехать в гости к Гене Шпаликову, автору песни «Я шагаю по Москве».
Шпаликова дома нет. Боб предлагает ехать к художнику Илье Глазунову, недавно вернувшемуся из Италии. Со слов Банника известно, что во время той встречи Глазунов со Стожаром побеседовал с глазу на глаз, на прощание вручил некие артефакты, а впоследствии несколько раз приезжал в Чернигов.
Выходя от Ильи, друзья натыкаются на Гену Шпаликова. Он явно не в себе и говорит, что пришёл убивать Глазунова, а в доказательство показывает орудие будущего убийства и декламирует только что сочинённый стишок: «Взяв ножик у сапожника, иду я по Тверской – известного художника зарезать в мастерской». У Шпаликова отбирают сапожный резак, уволакивают подальше от глазуновских апартаментов, запихивают в такси, и компания едет в ресторан «Арагви». По пути Гена сбивчиво повествует о том, что виной всему безумная ревность, что он смертельно влюблён в Илюхину музу – актрису Лариску Кадочникову.
В ресторане – новая неожиданность. В дверях Боб сталкивается с Сашей Вампиловым, приятелем по Литинституту и коллегой по иркутской газете «Советская молодёжь».
Через несколько месяцев Саша приезжает в гости к своим черниговским товарищам и, с лёгкой руки гостеприимных Гоги и Боба, попадает в водоворот мощного загула. Выживший и обогащённый новыми впечатлениями, он возвращается домой и по мотивам черниговских приключений пишет одну из лучших своих пьес – «Старший сын». Впоследствии эта пьеса с триумфом пройдёт по театральным сценам страны и будет экранизирована.
Вскоре на киноэкранах мелькнёт и Боб Банник, снявшись в фильме Васи Шукшина «Странные люди»…
Тем не менее, вопросы остаются. Почему вышеупомянутые гранды помогали Гоге войти в круг людей, близких к иностранному дипкорпусу, сводили с культуратташе различных зарубежных посольств в Москве? Каким образом ему удавалось то, что не получалось у многих мэтров – устраивать свои полуофициальные выставки в этих посольствах?
Интересно и другое. По какой причине всемогущий КГБ, легко стиравший в порошок судьбы людей куда более видных и значимых, не применял к нашему герою серьёзных санкций? Да, на работе и дома ему время от времени учиняли обыски, вели слежку и прослушивали телефон, периодически вызывали то в жёлтое здание на улице Ленина, то в серое на улице Шевченко – для профилактических бесед. Несколько раз увольняли из редакций, в которых он числился художником. Однажды несколько суток продержали в СИЗО по топорно сфабрикованному обвинению в хулиганстве, регулярно возя Стожара из кутузки на допросы, как ни странно, в Комитет государственной безопасности.
Гога сам об этом рассказывал.
Вот что удивительно: при всём при этом он вновь восстанавливался на прежних местах работы, как ни в чём не бывало продолжал сотрудничать с газетами, издательствами, мастерскими Худфонда. А самое интересное, что коллеги и друзья были хорошо осведомлены о Гогиных контрах с Комитетом. Ведь Григорий не упускал случая и с явным удовольствием рассказывал в компаниях за бутылочкой о своих приключениях, сопровождая повествование красочными подробностями, смущавшими штатных стукачей, отиравшихся рядом. Как ему после этих рассказов удавалось оставаться на свободе – совершенно непонятно.
Под вопросом и ещё одно странное событие. Пасмурным декабрьским днём 1983-го года в мастерскую к Стожару явились скромно одетые ребята с «лица необщим выраженьем», показали корочки Конторы и без особых мерехлюндий конфисковали так называемые «серые картины». Я беседовал с разными черниговскими художниками, с Гришиными коллегами по работе в газетах, с его друзьями, даже с бывшими любовницами – никто, абсолютно никто из них не помнил, что было на тех картинах, хотя все их видели. Проблески воспоминаний слишком зыбки для того, чтобы служить хоть каким-то объяснением возникшей тогда ситуации.
Зато все мои собеседники сходились в одном: после той конфискации Григорий впал в глубокое уныние и на несколько лет забросил живопись вовсе. Но его депрессия закончилась так же внезапно, как началась, и предшествовало этому вот что…
В начале мая 94-го Стожар уехал на пару месяцев на Днепр, порыбачить. На первый взгляд тут не было ничего необычного. У него с друзьями существовала давняя традиция каждое лето устраивать подобную экспедицию. На этот раз всё произошло по-другому. Гриша отправился в днепровские дебри сам, не известив об этом «рыбалургов» (так они называли друг друга), и… пропал.
Когда его приятели прибыли на место, где у них из года в год проходила ловля окрестной фауны в лице рыб и смазливых селянок, то Гоги там не нашли. Не было никаких признаков, указывавших на то, что он вообще появлялся.
Мобильных телефонов в ту пору ещё не существовало, а потому оперативно выйти на связь не представлялось возможным. Так и провели друзья-рыбаки месяц на Днепре, ничего не зная о судьбе исчезнувшего товарища. По возвращении в Чернигов они первым делом бросились узнавать: не объявился ли Гога? Выяснилось, что нет.
Зато объявился некий незнакомец, недавно звонивший родственникам Стожара, представившийся его коллегой по рыбалке. Он якобы сам черниговский, по профессии – инженер, а фамилия – не то Копейников, не то Кофейников. Случайно встретил Григория на днепровском берегу, когда уже собирался сматывать удочки. Художник дал ему номер домашнего телефона и попросил передать семье, что, мол, всё у него в порядке, здоровье в норме, клёв отменный, скоро ждите с добычей. О большем узнать не удалось – незнакомец быстро отбарабанил текст, после чего сразу повесил трубку.
Гриша появился на пороге своей квартиры спустя три недели после того звонка. С двумя мешками свежей рыбы. Чисто выбрит и причёсан. Слегка благоухая одеколоном «Вечерний перегар». Резиновые сапоги возвращенца, коим полагалось быть грязными и смрадными, выглядели, словно только что из магазина «Турист». По особым приметам, одежде и рыболовным снастям, обладатель новых сапог был опознан роднёй, как Григорий Стожар, отец и муж, «любимец богемы, выдыхатель дыма», как сказано в стихотворной подписи к одному из его автопортретов. Он никак не комментировал своё длительное отсутствие, загадочно улыбался в усы, а очки блудного рыбалурга сверкали озорным блеском и пускали солнечные зайчики по всей квартире.
Где и как он провёл те два месяца – до поры оставалось тайной…