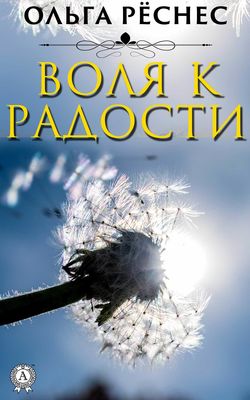Читать книгу Воля к радости - Ольга Рёснес - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 1
НАЛЕВО ЗА УГЛОМ
4
ОглавлениеМой отец, Иван Черноиванов, сын Ивана Черноиванова, совершил в своей черноивановской жизни три непоправимые ошибки: допустил мое появление на свет в год белого тигра, вовремя не сдал на макулатуру книги, не забил гвоздями крышку фортепиано.
Белые тигры – вещь сама по себе довольно редкая, и вовсе не обязательно, чтобы они приносили кому-то пользу. Иметь в хозяйстве белого тигра – одна сплошная морока, хотя, с другой стороны, хорошо выделанная шкура тоже чего-то стоит. Самое лучшее – белого тигра ликвидировать, согласно инструкции: руби котят, пока слепые. А если тигр уродился вегетарианцем, проще всего определить его в какой-нибудь разъездной зверинец: глядишь, и сдохнет по дороге.
И если уж ради какого-то общего интереса тигру позволяют оставаться белым – скажем, если он особенно шкурой удался – то во всем остальном ему следует немедленно растигритъся. Или, как сказал, причем, по-русски, товарищ-языковед Сталин:
– Шкура за своего тигра не отвечает.
Что касается макулатурных книг, то это в основном сорняк и бурьян, самосевом поднимающийся над постановлениями партии. Много нашим друзьям – тракторам с этим бурьяном возни, много всякого кряхтенья… Ведь не всякий олух приспосабливается читать книги критически', и даже среди тех, кто уже сидит, не всякому по зубам – если зубы еще целы – рельсы и шпалы. Или, как сказал, причем, по-русски, их серый товарищ-языковед:
– В нашем питомнике человеческих душ не следует путать привой с подвоем, и если кто-то сомневается в продуктивности нашей бескорневой системы, мы этого товарища вместе с корнями ликвидируем.
Эти книги куплены моим отцом вовсе не для того, чтобы их кто-то читал, а только для солидности и для обстановки. «Смотри-ка, – скажет грамотей-сосед, – это же собрание сочинений!» И отец уже подумывает о том, что лучше было бы выдрать из обложек всю бумагу и сдать ее на макулатуру, а сами обложки – все-таки собрание сочинений – поставить в шкаф на видное место. Пусть олух-сосед видит: Иван Черно Иванов – грамотный товарищ…
И пока еще бумага из картонных переплетов не выдрана, я тайком справляюсь у моего – теперь уже одиннадцатилетнего – двойника: это ли не потайной ход и лаз в ту самую Европу, где наш товарищ-языковед сроду не имел ни одной родной бабушки, ни одного приблудного прадедушки?… И мой одиннадцатилетний двойник, припадая к еще не разрезанным страницам, кричит так, что даже оттуда, из Европы, слышно: «Выход!., выход!., выход!..»
Может, это совсем рядом?., может, уже за лесом?., на том берегу реки?…
Алое, оранжевое, золотое, затопляющее снега и горизонты насмешливое зимнее солнце. Оно слоняется вместе со мной по молодому, выросшему на месте бывших окопов, лесу, и увязавшийся за нами по пятам короткий зимний день клянчит у голубоватых сугробов и проложенной мною лыжни остатки серебристо-сверкающей, алмазной, жемчужной вольности. Здесь, в этом лесу, среди этих сугробов, судьба несется ко мне в вихре снежной пыли, сбивает меня с ног, обдает мои щеки и губы солнечным смехом – и мы вместе катимся к самому краю откоса, спеша догнать расплавившееся у горизонта солнце. И в самый последний миг, уже на краю, я спрашиваю у судьбы: «Ты?…» И где-то рядом, так близко, ближе и быть не может, где-то возле сердца, возле самой души… нет, нет, гораздо ближе, во мне, слышится ответное солнечное: «Я!»
Почему же мне опять приходится возвращаться туда, где меня меньше всего ищут? Возвращться в производственнонеобходимое настоящее, повисшее на крючке страха между «когда-то» и «когда-нибудь». Когда-то под самым носом у нынешнего вождя распустилось нечто незримое, чему ни один языковед названия придумать не может, и только по запаху можно догадаться, что это – наиопаснейшее из всего, что только может когда-либо под твоим носом распускаться. Настоящая чума и отрава, злостный вредитель, тунеядец, паразит, приспособленец и космополит, изменник, предатель и в целом – тот самый враг, который, сколько его не выводи на чистую воду, остается незримым. И вождь, посоветовавшись с другими товарищами, решает впредь незримому врагу не позволять быть зримым', глядишь, и об этом искусстве все потихоньку и забудут, и языковеды, так и не подобрав подходящего слова, скажут: «Да было ли оно, незримое, вообще?» Когда-нибудь, когда из скорлупы ночи вытечет последняя капля света, а музыка сделается профессиональным стуком и в ней умрет последний намек на сходство со мной, уступив место обеденным технологиям, я приоткрою затянутое паутиной окошко и – вон и прочь!..
Только старый скрипач, что гонит вперед маленький школьный оркестр, и может подслушать мою тишину; и он-то знает цену молчания: когда истощаются, вянут и засыхают последние слова, приходит миг музыки, качающей на своих волнах мое лунное, солнечное, звездное «я»… Капая в воду валерьянку, старый скрипач бормочет, косясь в сторону рыжего, под капюшоном, Вивальди:
– Не износилась бы только, не истрепалась бы душа… а уж башмаки с одежонкой, они и дырявые сгодятся…
Но Вивальди только нетерпеливо кивает: «Дальше, дальше!..», и маленький школьный оркестр несется вместе с ветром Времен года к нездешне синей весне… Дальше, дальше…
Но что, если башмаки с одежонкой окажутся слишком уж дырявыми?., что, если ноги и крылья при томятся в темной чаще леса?., что, если вокруг – ни одного огня?., и сколько не кричи: «Огня! Огня!..», так ни до чего и не дозовешься…
– Не дозовешься… – соглашается старый скрипач, и на его бледном, увядшем лице что-то вдруг вспыхивает, распускается, расцветает… нет, это всего лишь отсвет зимнего заката, стремительно гаснущего над лесом, – … и когда ты наконец устанешь томиться и звать, мечтать и надеяться, когда все ручьи и закаты, и само море окажутся для тебя мертвыми, тогда, пожалуй, и будет самое время выяснить, так ли уж тебе этот огонь нужен. И вся твоя жизнь, долгая или короткая, может оказаться всего лишь запалом, всего лишь досадно медленным тлением… Но и это уже кое-что… – он вытаскивает из кармана штанов мятый носовой платок, сморкается, вытирает слезящийся глаз, – … хотя бы такое вот начало.…Так, чтобы потом – без учителей и школ, чтобы самому… Самому! – глядя на меня покрасневшими глазами, он хмурится, злится, ворчит… – Чтобы не сделаться уткой славы и надувным матрасом успеха, чтобы быть'. А что, собственно, есть!.. Есть только свет.
Обычно старика никто не слушает – да и зачем? Мало что-ли неудачников и пьяниц, которым непременно нужно своим прошлым с другими поделиться? В особенности те, кто уже свое отсидел, им бы только болтать, только бы издевательски похохатывать, ядовито намекать… а уж эти их анекдоты! На днях вся музыкальная школа и маленький, в полном составе, школьный оркестр ходили смотреть фильм про одного еврея. Собственно, фильм был про Ленина, но еврей оказался в фильме очень кстати, потому что играл – в присутствии Ленина – на рояле. Этот еврей играл и играл, а Ленин слушал и слушал и, решив в конце концов, что это – нечеловеческая музыка, распорядился особым декретом перевести Бетховена из «ихних» в «наши». И чтобы еврей в фильме вышел более или менее натуральным, эту роль дали одному немцу, который был горазд сам, без посторонней помощи, «Апассионату» на рояле исполнять. Этому он научился в карагандинском сталинском концлагере. Попробуй теперь скажи, что наши лагеря некультурные! Да, у Рихарда Герлинга всегда была под рукой клавиатура, и он ею при всех пользовался. Правда, рояль к этой клавиатуре, согласно лагерному распорядку, не полагался, зато подоконник в бараке был достаточно длинным, чтобы все нарисованные на ватмане октавы могли на нем улечься. И всякий раз, примеряясь к виртуозному пассажу и одновременно пялясь на лагерную вышку, Рихард Герлинг… рычал! Ух, как рычал! Сразу за подоконником начиналась решетка, дальше – колючая проволока, еще дальше – уходящая за горизонты степь. И еще была ночь и куцый огарок свечи, и болезненная, надорванная стонами и хрипом тишина…
Об этом фильме все скоро забыли, и маленький школьный оркестр, трясясь на ухабах репетиций и экзаменов, в конце концов угодил в полосу своей маленькой школьной известности: в оркестре появился вундеркинд. Вот ведь, и у нас, на берегах нашей лужи такое водится!.. Такое – это какое?…А такое: неуемно-рукастое, экскаваторно-бульдозерное, если надо, противотанковое. И ничего, что шея у Вероники пока тонковата, а детские плечики узковаты; главное – техника. Главное – чтобы как машина, чтобы стопроцентное попадание, чтобы горохом арпеджио и гамм – по нашим и вашим мозгам. И Времена года вот-вот перейдут в сплошную нашу зиму, в наше родное- похоронное, и старый скрипач вот-вот уступит вундеркинду свою дирижерскую палочку…
Кстати, что это такое, вундеркинд? Ни с того, ни с сего на ровном месте образовавшийся бугор, а то и возвышенность, которую в силу обстоятельств не успели сравнять?., не сделавшийся еще знанием откуда-то со стороны полученный дар?., нечто вслепую верным путем идущее?… К вундеркинду можно по всякому придираться и, плюнув на развитие шеи, ног и мозгов, дать ему всю оставшуюся жизнь так в вундеркиндах и проходить – зачем таким взрослеть? Хотя гораздо честнее было бы признать, что вундеркинд в условиях нашего специфического климата – не более, как призрак. Вот он был, вот его и нету…
Призраки являются, как правило некстати.
В это четверговое полнолуние мой подоконник дрожит, вибрирует, светится, фосфоресцирует, и стоящие на нем кактусы испуганно жмутся друг к другу, застигнутые врасплох холодным любопытством луны. За окном – октябрьская ночь, прелая листва, заморозки. Окно уже заклеено на зиму полосками старых газет, между рамами – толстый слой ваты, форточка плотно закрыта. Все птицы, дожди, сквозняки – снаружи; и даже лунный свет, осторожно ощупывающий колючки кактусов, кажется здесь, по эту сторону, лишним и посторонним: здесь, в этой темноте и тишине, я даю распускаться и расцветать только моей воле. Пожалуй, только у призрака хватит настойчивости, чтобы заявить о своей посюсторонности в этих моих владениях, но надолго ли?… Пока моей воле охота распускаться и расцветать и быть игриволегкой, может, даже чуть легковесной, отчасти избалованной, я дам ей нестись и танцевать среди еще не известных мне пейзажей – я пускаю ее вперед… дальше, дальше…
Призраки не любят бывать в гостях, им непременно надо хозяйничать самим – и именно поэтому они всегда являются некстати. Разве могу я смириться с тем, что мое заклеенное на зиму окно не представляет, увы, никакого препятствия для холодного, вкрадчивого призрачного любопытства? Разве могу я терпеть, когда кто-то молча наблюдает за мной, спящей, с моего кактусового подоконника? Мое негодование столь велико, что им можно было бы заклеить на зиму все имеющиеся в городе окна; и я терплю это чужое любопытство лишь потому, что мне самой… чертовски любопытно! Я позволяю медленно переползающей вдоль стены тени надкусывать кактусы и сбрасывать на пол ажурный узор занавесок; и я различаю в холодной лунной голубизне контуры призрачного силуэта: острые локти, всклокоченные волосы, подтянутые к подбородку колени…
Вероника?…
Она сидит на подоконнике, спиной к октябрьской ночи, и явно чего-то ждет; и если я скажу, что мне не страшно, я скажу только часть правды: сквозняк загоняет меня с головой под одеяло, и я нащупываю рукой на полу стоптанный тапок… вот сейчас я этим тапком в скользящую по полу тень и запущу!.. Вероника потягивается, зевает: наверняка и ей время кажется поздним. Луна перемещается к западу, ажурная тень занавесок ползет к моей постели, контуры призрачного тела становятся ярче… Да, я вижу теперь клетчатую рубашку, темные, вьющиеся волосы, жилистые кисти рук… глаза\… два горящих в темноте провала… только бы не угодить туда! Только бы не дать этому сквозняку забраться слишком далеко под одеяло, подползти к животу и подмышкам, усесться на спину, вцепиться в затылок… Нет, не так уж мне страшно! И лучше, пожалуй, оставив в покое тапок, сказать: «Располагайся, будь как дома.»
Может, как раз это Вероника и хочет от меня услышать: не меняя сидячего положения, с подтянутыми к подбородку коленями, она беззвучно перемещается вместе с тенью дерева к стоящему в углу пианино, и мне остается только надеятьтся, что она не надумает вот так, среди ночи, что-то свое призрачное, зимнее, сыграть. За стеной – родители, соседи и старший брат- стукач, им всем невтерпеж меня в чем-то противоестественном уличить. Но что за дело до этого призраку? Придавив острым локтем несколько кричащих диссонансов, Вероника распарывает полуночную тишину сверкающе-ледяным глиссандо и принимается, к моему ужасу, выдалбливать костяшками пальцев язвительно-злой, веселый мотивчик: «Поди сюда, поди сюда, поди сюда!..» И в темном углу под подоконником, где вьют свою паутину домовитые пауки, что-то копошится и вздыхает, что-то вот-вот выползет в полосу лунного света и тут же унесется сквозняком прочь, мимоходом задев кончики длинных, свесившихся с подушки ушей моего старшего стукача-брата. И пусть мой брат спит – спит целую вечность, и пусть его длинные уши обрастают клочковатой шерстью, покрываются колтунами и расчесами… О, эти уши!..
Я-то знаю, как велико братское любопытство, оно соизмеримо лишь со страхом перед другими длинными ушами, также покрытыми колтунами и расчесами; и я знаю, чем питается братская радость – радость стукача: сознанием превосходства над тем, кто разделяет с ним его страх. «Смотрите, вы, такие же как я, как я удачлив!., я гораздо хитрее и, если хотите, коварнее вас всех!., и даже самые среди вас умные в конце концов наступают на собственные длинные уши, и только одному мне удается идти по жизни, не спотыкаясь и не сбиваясь с нашей сообща протоптанной тропы, с нашей прямой линии!»
Еще одно сверкающе-ледяное глиссандо, и веселый мотивчик несется дальше, в смежную комнату, где теснятся на полутороспальной железной койке мои родители, и кто-то из них, перепутав во сне собственную голову с домом советов, бормочет в комковатую подушку: «Мы шли, шли, шли, стараясь не сворачивать ни вправо, ни влево, и несмотря на то, что мы так никуда и не пришли, мы по-прежнему держим курс прямо – прямо к нашей братской могиле, к нашему лагерю, где нет различий между генералом и солдатом, где царит одна сплошная демократия и где наши прямолинейные пороки становятся перпендикулярно нашим добродетелям, время от времени меняясь с ними местами, что, в сущности, не нарушает порядка выбранной нами прямолинейности…»
Веселый мотивчик мог бы пробуравить насквозь свесившееся с подушки ухо, и брат-стукач наверняка отдал бы полуха, чтобы узнать, куда подевался доставшийся мне по наследству участок прямой. Вот сейчас он возьмет линейку – а у него их много, новых и старых, залитых чернилами и просто грязных – и измерит величину отклонения. Сейчас он возьмет самую большую, чертежную, она висит у него над кроватью, словно приготовленный к казни топор. Все эти линейки брат перекладывает и перевешивает с места на место, стирает с них пальцем пыль, подрисовывает чернилами стершиеся цыфры, засовывает вместо закладок в учебники – и ему самому так хочется линейкой стать! Линейкой, помеченной раз и навсегда выбранным ГОСТом.