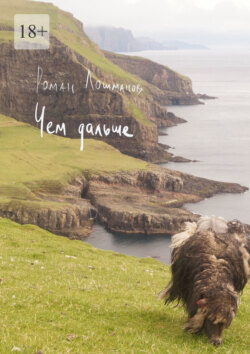Читать книгу Чем дальше - Роман Лошманов - Страница 14
Торсхавн в июне 2019 года
Оглавление***
Олавур – глава фарерского Комитета по вопросам равноправия и член совета директоров местного университета. Еще у него есть своя IT-компания. Мы встретились в его офисе в одном из новых зданий в центре Торсхавна, говорили о том, как изменяются со временем на Фарерах семейные роли, и о том, как устроено островное общество.
«Мы отличаемся от других северных стран, – рассказывал Олавур. – У нас, например, в семьях больше детей. Больше четырех, конечно, уже большая редкость, но два-три – норма: уж если люди заводят детей, то больше одного. Наверное, это связано с тем, что мы до сих пор остаемся более традиционным обществом с традиционными ценностями. Семья для нас очень важна, мы в этом похожи, скорее, на средиземноморские страны, чем на скандинавские. В Дании, например, люди не так уж часто общаются с родителями родителей, с двоюродными братьями. Здесь же люди близки со своими бабушками и дедушками, знают всех детей своих братьев и сестер, и своих двоюродных и троюродных братьев и сестер, и так далее. Это здорово, это нас объединяет.
Вообще, нас отличает то, что мы – общество одновременно и модернизированное, и традиционное. Я имею в виду не только семью. Вот, смотрите, я сижу в офисе с самым современным оборудованием, а через десять минут могу выйти на лодке в море за рыбой или поехать в горы к овцам. Это все очень близко. Это нормально: работать в офисе, ловить рыбу, забивать овец – для меня, например. Такая двойственность в мире не слишком сейчас распространена: ты либо традиционен, либо современен. Люди, которые живут в больших городах, не знают, откуда берется мясо, а люди, которые живут в деревне, не знают, как работают новые технологии». Есть ли овцы у него самого? «Двадцать пять; достались по наследству с землей. Отец умер в прошлом году; мама не хотела всем этим заниматься и передала землю нам – нас четверо, брат, две сестры». – «То есть баранину не покупаете?» – «Нет». – «А рыбу?» – «Ее покупаю, я не очень много рыбачу. Но большинство людей не покупает».
Еще я спросил, тяжело ли здесь жить, и Олавур сказал, что непросто: «Человеку просто необходим хоть какой-то доход. Но социальная поддержка очень высока. Если ты потеряешь работу, тебе платят пособие по безработице два года, это где-то семьдесят пять процентов зарплаты. Не найдешь работу потом, то хоть и будешь получать еще меньше, но все равно не останешься без крыши над головой. У нас есть пара бездомных, которые просят на улице денег, но их можно встретить только здесь рядом, в центре Торсхавна. На Фарерах просто очень трудно быть бездомным – из-за климата, – и дело, скорее всего, не в потере работы, а в алкоголе. Если он – твоя единственная потребность, то ты становишься на путь, ведущий к смерти. Но это раньше было проблемой, сейчас она куда менее острая, чем лет сорок назад. У нас ведь раньше была очень строгая система: квоты. Когда их отменяли, многие боялись, что люди снова станут больше пить, но оказалось, что если нет строгих ограничений, то потребление падает. Раньше ты имел право на покупку сорока восьми, кажется, бутылок крепкого в год. Надо было делать заказ, потом раз в квартал приходила большая посылка из Дании. Примерно бутылка в неделю – это не так уж и много, но когда приходила коробка, многие начинали пить и не останавливались до тех пор, пока все не кончалось. А сейчас спиртное можно купить в магазинах или в барах, и пить стали гораздо меньше».
Когда он это рассказывал, я подумал, конечно, о наших талонах на водку, но то, что Олавур говорил про традицию и модернизацию, показалось мне более примечательным. Мой родной Арзамас – город, который сильно вырос в шестидесятые-восьмидесятые, втянув в себя молодое население окрестных сел и деревень. Это были горожане второй половины двадцатого века, но они не забыли, что такое работать на земле, и когда наступили девяностые, то снова к этому вернулись: сажали картофель, лук, капусту на участках своих деревенских родителей, брали в аренду колхозные земли, нанимались на сбор урожая за натуральную оплату. Да что Арзамас, вся Россия до сих пор остается такой модернизированно-традиционной, двойственной – за исключением совсем уж урбанизированных пространств. Маленькие российские города наполовину или даже больше чем наполовину состоят из частных домов с садами и огородами, а дачи используются очень многими как источник дополнительной выращенной своими руками еды.
Кажется, что у нас в этом с фарерцами много общего, но это не совсем так. Их традиционность благодаря относительному богатству модернизирована больше, чем наша. «У нас в последние годы стало лучше с авиаинфраструктурой, – говорит Олавур. – Много рейсов не только в Копенгаген, но в и другие города и страны. Час до Эдинбурга или Рейкьявика, два до Копенгагена. Пара сотен крон за билет – это для нас довольно дешево. Можно слетать на концерт или на футбольный матч, а для людей из других стран стало проще к нам добраться. И много фарерцев летает по работе, главным образом в Норвегию: мужчины добывать нефть, женщины – работать сиделками и медсестрами: там зарплаты выше».