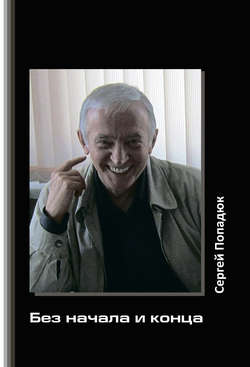Читать книгу Без начала и конца - Сергей Попадюк - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1972
Оглавление8.01.1972. Я быстро выдохся, перегорел. В свое время я сбежал от живописи в армию не столько потому, что в себя не верил (в живописи-то я как раз преуспевал), сколько потому, что не верил (и, кстати, продолжаю не верить) в саму живопись – в насущную, жизненную нужду людей в современной живописи.
…Отречение от живописи имело, возможно, более глубокий смысл, чем недостаток дарования или упрямства: на циферблате европейской живописи пробило полночь.
Кундера. Бессмертие.
Иными словами, я думал о смысле, об общем смысле дела, которому хотел себя посвятить: какое значение оно имеет не только для меня, но и для других, для всех. А в смысл надо верить. Для того чтобы жить и работать, надо верить – иначе все рухнет, волшебный мираж рассеется и останется только один прозаический вопрос: зачем?
Не всяк герой, кому хочется. Храбрости и дара мало, нужны еще гидры и драконы. Я их не находил нигде.
Сартр. Слова.
Веру в это «зачем» я утратил, все стало пресно, голо, плоско, хотя, правду надо сказать, сбежал я также и для того, чтобы в творческой бездеятельности сохранить веру в себя. Сладко было ощущение могущества: имея миллионы, бросить их в грязь. Если бы я был бездарен, я бы не осмелился.
…Это уединенное и спокойное сознание силы! Вот самое полное определение свободы, над которым так бьется мир! Да, уединенное сознание силы – обаятельно и прекрасно. У меня сила, и я спокоен.
Достоевский, Подросток. I. 5. 3.
А теперь я изверился не только в науке, которая заменила мне живопись (отчасти заменила, ибо никогда я не смотрел на нее как на главное, а только как на видимое замещение), но и в себе самом, и от этого уже не сбежишь. Некуда.
Я изверился в науке, в которую прежде верил, – изверился давно. Это произошло, пожалуй, как я теперь понимаю, вскоре после курсовой работы по брейгелевскому «Эльку» («Между «Пороками» и «Добродетелями»»), в тот проклятый високосный год.
Тем не менее я продолжал пользоваться успехом, смеясь втайне над теми, кто меня расхваливал и принимал всерьез, и сейчас я ее «углубляю», эту науку, сводя ее к математике, к ползучему позитивизму, словно цепляясь за какие-то мелкие подпорки, которые можно подтвердить доказательствами. Впрочем, с логикой-то все обстоит благополучно…
Но я изверился и в себе самом – изверился, не успев толком ничего сделать, – от одних предчувствий, надежд, которые даром только вымотали меня.
* * *
С самого раннего детства в моем сознании прочно закрепился отталкивающий образ смерти. Наш детский сад находился на углу Садовой-Спасской и Большой Спасской, и гулять нас водили в парк больницы Склифософского. И по нескольку раз в день по дорожкам мимо нас катились по направлению к моргу толкаемые санитарами каталки с торчащими из-под простыни босыми желтыми ступнями.
Как-то зимой в этом парке я выкопал из снега курительную трубку – фарфоровую, изогнутую, голубого цвета – и тут же сунул ее в рот, стараясь привлечь к себе внимание. «Брось сейчас же! – закричали девочки. – Ее туберкулезный курил!..»
Боже мой! ведь и я когда-то был маленьким…
* * *
Бреясь в ванной, я кричу своему сыну:
– Мика, иди сюда, я тебе песенку спою!
Он прибегает и прижимается к моей ноге. Задрав голову, произносит:
– Жил-был на свете папа…
– Который пел своему сыну песенки, – подхватываю я.
– Которые сын с удовольствием слушал, – заканчивает он.
Мика лучше меня, каким я себя помню в шесть лет: не плакса,
не зануда – умный, веселый и отважный человечек.
Он артистичен и хорошо чувствует форму. Возвращаясь вечером из детского сада, он каждый раз обставляет свое появление как импровизированное антре. Встав на пороге в картинной позе, возглашает что-нибудь вроде:
– Хорошо быть медведем, ура!
Или:
– Простите! Простите! Сорок тысяч восклицательных знаков!
Встречая пришедшего в гости Заходера:
– Дядя Боря, это когда ты приходишь, ты – Заходер. А когда уходишь? Выходер, да?
– Точно, Димочка! – подхватывает косоглазый поэт. – А когда я перехожу улицу, то становлюсь Переходером.