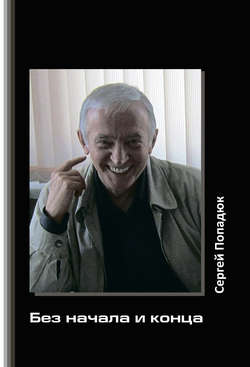Читать книгу Без начала и конца - Сергей Попадюк - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1971
Пустошь Ширинье
ОглавлениеЭто был первый день, когда вслед за ударившим морозом повалил снег. Мелкая белая крупа то носилась, гонимая студеным ветром, перед лобовым стеклом «газика», то исчезала, уступая место унылому черно-белому пейзажу.
Прошел уже час, как мы поняли, что заблудились. Наш «газик» рыскал в нескончаемом лесу где-то на стыке трех районов. Ухабистый проселок бежал навстречу, виляя, время от времени раздваиваясь. Ни деревень, ни путника, у которого можно было бы спросить дорогу… Водитель Серега Зайцев уже не сыпал анекдотами; на заднем сиденьи, где Каменев балагурил с двумя девицами, тоже примолкли. «Газик» с трудом выбирался из каждой новой рытвины, Серега вел машину с подчеркнутым безразличием – после того как холодно объявил нам, что бензина осталось километров на пять, не больше. Я сидел рядом с ним, на месте Комеча, который на субботу-воскресенье укатил читать лекции в Новгород. Воспользовавшись его отсутствием, Коля с Серегой пригласили в эту поездку своих ярославских подружек.
Проселок опять раздвоился. Я только открыл было рот, чтобы сказать: «Давай налево», – как Коля сзади скомандовал:
– Вправо езжай!
Дорога пошла вниз, и там, на дне лощины, чернела в снегу большая лужа. Серега медленно подвел к ней машину, высматривая объезд, а потом дал газ.
Это была не лужа, а заболоченный ручей, слегка подмерзший и присыпанный снежком. Мы завязли в нем, погрузившись в жидкую грязь по самые дверцы. Черт меня дернул махнуть на все рукой и уступить Колиному легкомыслию! Пришлось вылезать прямо в воду и приниматься за извлечение «газика».
Первые усилия ничего не дали. Чем больше мы толкали и раскачивали буксующую машину тем безнадежнее она увязала. Тогда мы послали Люду с Мариной вперед по дороге – искать помощь, а сами взялись за дело всерьез. Мы копали ил на дне ручья, таскали из леса охапки хвороста и подсовывали под колеса, Серега газовал вперед и назад, поднимая фонтаны грязи, – все было бесполезно. От ледяной воды сводило руки, вода захлестывала за голенища, и промокшие ноги стыли в сапогах… Так продолжалось часа два, и конца не предвиделось. Падал снег, начинало темнеть. Мы выбились из сил и не знали, что делать. Тут-то она и появилась – Тарова Анна Ивановна, тетя Нюша.
Это было как в сказке. Совсем павшие духом, но еще бьющиеся над намертво увязшим «газиком», мы не сразу заметили, что она давно стоит, наблюдая за нами, – неизвестно откуда взявшись в окружающей нас глухой чащобе, – высокая старуха с яркими голубыми глазами, в сапогах, телогрейке и с длинной палкой в руке. Потом я услышал, как она негромко проговорила про себя:
– Люди в беде – надо помочь.
И полезла в воду. Позже, познакомившись с нею поближе, мы поняли, что она вся была – в этой непреклонной фразе.
Вместе с нами она стояла в ледяной воде по колено, плечом стараясь вытолкнуть машину из густого ила, таскала охапки хвороста, материлась от бессильной ярости, даже колотила нас по спинам своей клюкой, чтобы мы работали дружнее и не опускали рук. Убедившись в тщетности всех усилий, она приказала мне:
– Пошли-ко со мной!
Неприметной тропинкой она вывела меня к брошенной деревушке километрах в двух от нашего бедствия и, пошарив в одном из сараев, сунула мне в руки ломик
– Ha-ко фомич, лезь на крышу, доски отдирай.
Нагруженные досками, мы вернулись к машине.
Но и доски не помогли. Крутящиеся колеса «газика» мгновенно загоняли их в ил, и одна за другой они исчезали бесследно. Было уже совсем темно, и Серега включил фары. Со всех сторон из леса доносился треск: появились дикие кабаны. Чтобы отпугнуть их, а нам заодно хоть немного согреться, Анна Ивановна разложила на берегу большой костер. Ночь сгустилась.
Девчонки наши все-таки не зря ходили. Несмотря на воскресенье, они разыскали где-то шофера с ЗИЛом-цистерной, который согласился прийти нам на помощь, приехал, мотаясь фарами по лесу. Он остановил машину на противоположном берегу ручья, не выключая фар, светивших навстречу фарам нашего полуутонувшего «газика», и выпрыгнул из кабины. Это был совсем молодой детина, огромный, широкоплечий, сразу видно, привычный к передрягам вроде той, в которую мы попали (в отличие от нашего Сереги, лихого гонщика на шоссе, но неопытного в условиях российского бездорожья).
– Как же это вас угораздило в бочаг? Надо было левее брать, там и труба положена, а здесь у нас даже трактора не ходят…
По бокам цистерны были принайтовлены бревна. Отвязав их, мы под руководством детины занялись «вывешиванием мостов», причем основную работу выполнял он, так как мы к этому времени совсем выдохлись. Перед его силой, энергией, сноровкой как-то отступили холод, лес, темнота, кабаны, угрожающе трещавшие по кустам, и сама безнадежность нашего положения.
Мы складывали бревна перед радиатором «газика»: два коротких вдоль и одно длинное поперек; опираясь на эти козлы четвертым бревном, мы подсовывали его конец под бампер и, навалившись, как рычагом, приподнимали им передний мост машины. Оставшимися досками и хворостом гатили дно ручья под «вывешенными» колесами, потом разбирали козлы и повторяли всю операцию с задним мостом. После чего детина залезал в кабину ЗИЛа, задним ходом сдергивал «газик» тросом с гати на полметра вперед, и все начиналось сначала: передний мост, задний мост, доски, хворост, рывок и еще полметра.
Через несколько часов такой работы «газик» был дотянут до берега и уперся бампером в глинистый откос. Мы срыли откос лопатами, но дальше машина не шла. Помочь мог только сильный рывок тросом, но тонкий трос для этого не годился; приходилось тянуть мягко, с места, а на это мощности ЗИЛа не хватало. Обе машины рычали, впустую крутя колесами, тряслись от напряжения и не двигались, а мы, совсем обессиленные, просто висели на «газике», делая вид, что толкаем. Потом раздавался треск, летели искры, и ЗИЛ по инерции отлетал в кусты – трос не выдерживал. Так повторялось много раз. Я связывал оборванные, разлохмаченные, колющиеся концы и, зажав их в кулаках, ждал, когда ЗИЛ, отъехав, натянет трос. В перекрестном свете четырех фар я тупо смотрел, как мои посиневшие бесчувственные кулаки вместе с концами троса вползали в затягивающийся узел… Узлов появлялось все больше, и трос становился все короче; наконец он укоротился настолько, что ЗИЛ начал соскальзывать с глинистого откоса, рискуя тоже завязнуть в ручье.
Еще бродили, шлепая по воде, освещенные фарами фигуры, еще ездил я с детиной на его ЗИЛе к каким-то заброшенным сараям в поисках хорошего троса, но уже ясно было, что ничего больше сделать нельзя. Восемь часов прошло, как мы засели в этой трясине.
– Давай-ко, Федор, вези их ко мне, – решила Анна Ивановна. – Смотри, как продрогли… До утра «газон» никуда не денется. А утром трактор найдем.
Коля с Серегой и девчонки кое-как пристроились на цистерне, Анна Ивановна села в кабину, я встал на подножку, и мы помчались. Машину трясло и бросало, изо всех сил я цеплялся за дверцу кабины, обледеневшие подошвы соскальзывали на ухабах.
Была уже глубокая ночь. Анна Ивановна зажгла керосиновую лампу и приказала нам лезть на печь – греться, а сама занялась приготовлением ужина. Я помогал ей: чистил картошку, резал лук, – за это, должно быть, она меня и полюбила. А может, просто пожалела за одиночество. Не отрываясь от готовки, она доверительно рассказывала мне о себе.
Отец ее – знаменитый И.Е. Кузнецов, бывший фабрикант фарфора и фаянса, сама она работает парикмахером в Ярославле, а эта ее избушка, в которой она нас приютила, – что-то вроде дачи.
– Хорошо здесь летом. Многие у меня гостят. И Валентина с Андрианом приезжали…
– Что за Валентина? – насторожился я (это имя не в первый раз всплывало в ее рассказе).
– Терешкова, племянница моя. Простая, работящая была девка, да слава ее испортила…
Соседей своих деревенских она не любит.
– Вы пойдите-ко сейчас, постучите кому-нибудь в окно: мы, мол, голодны, замерзли, ночевать негде, – думаете, впустят вас? И не надейтесь. Они больными скажутся, несчастными: у самих, мол, ничего нет… Отговорятся. А по мне – помогать надо людям. Для того и живем. Что ж, что нет… А у того, кто в беду попал, еще больше нет. Поделись с ним хоть чем-нибудь – уже ему легче. А еще лучше – сними с себя последнюю рубашку. Вот как я думаю. Да вы знаете ли, – неожиданно закончила она, повышая голос, чтобы все слышали, – знаете ли, куда вас занесло? Ведь на том месте, где вы в трясине завязли, татары когда-то Василька Константиновича ослепили, князя нашего. Битву проиграл, но врагам не покорился. И веру чужую не принял. Вот так-то.
После ужина, устраивая нас на ночлег, Анна Ивановна спросила насмешливо:
– Да вы хоть женаты между собой?
Ей ответили что-то невнятное. Коля с Людой опять полезли на печь, а Серега с Мариной устроились на единственной кровати; мне пришлось лечь с краю. Для себя Анна Ивановна разложила раскладушку и погасила лампу. Послушав начавшуюся в темноте возню, она воззвала ко мне:
– Сережа, тебе же спать не дадут. Перебирайся, что ли, сюда, на раскладушку…
Я притворился спящим и тут же действительно заснул. Я заснул так крепко, что не почувствовал, как ранним утром, еще до света, Серега перелез через Марину, через меня, оделся и ушел за трактором.
Убедившись уже на своем опыте в действенной силе тети Нюшиной философии, мы продолжали убеждаться в ней и на следующий день. Когда Серега подогнал к дому оживший «газик», Анна Ивановна попросила подбросить ее до шоссе. В деревнях, через которые мы проезжали, она останавливала машину, и вокруг нас тотчас собиралась толпа. Люди выходили приветствовать Анну Ивановну, в этих местах все были ее знакомцами. Одна женщина говорила ей:
– Тетя Нюша, помоги, ради бога. Девчонка моя, Танька, – ты ведь знаешь ее – в Ярославле на завод устроилась. Жить-то надо, любую работу делать готова. А ее в вохру определили – на вышке ночью с ружьем стоять. Она же молоденькая совсем, ей восемнадцати нет… Приезжала – плачет: мама, не могу, мама, страшно!..
– Завод – какой? – перебивает Анна Ивановна. – А, знаю. Там Паша Савинов директором. Я скажу ему.
– Скажи, тетя Нюша, скажи, уж мы в долгу не останемся.
– О чем ты говоришь, Марья! – сурово произносит Анна Ивановна, и мы трогаемся дальше.
Но больше было облагодетельствованных: Анну Ивановну благодарили за помощь, за хлопоты и зазывали в гости.
* * *
29.10.1971. Эта экспедиция проложила во мне какой-то рубеж, не слишком резкий (видимо, уже подготовленный), но достаточно заметный. Я вернулся оттуда не совсем таким же, каким уезжал.
Перемене, кроме всего прочего, способствовали жестокие споры с Комечем. Жестокими, вероятно, они казались только мне, поскольку не было у меня той уверенности в своей правоте, какой обладает Алексей Ильич. Я умолкал, чувствуя всю глубину и принципиальность наших разногласий, не обнаруживая никакой возможности их примирения; а может быть, больнее всего на меня действовала самоуверенность тона – тон истины в последней инстанции. Ну, ни малейшего сомнения, ни малейшего допущения другой точки зрения! И даже не в Комече дело. Все они – мои теперешние так называемые коллеги – судят столь же безапелляционно, прямо авгуры какие-то, обладатели внушенного свыше знания… И ни с кем из них нет у меня согласия.
Они казались мне людьми какой-то высшей природы, высшего постижения, высшей учености, чем я, и в то же самое время одной половинкой мне стыдно было за себя и другой половинкой за них: я и уважал их, и тяготился ими, и даже потихоньку смеялся над теми, кто из них был выше других.
Пришвин. Дневник. 14 октября 1926 г.
Но нет, повторяю, и уверенности в своей правоте.
Эти споры утвердили меня в моем окончательном одиночестве. Если раньше я мог позволить себе смотреть на искусствоведов как бы из лагеря художников, а до споров с Комечем – на художников из лагеря искусствоведов, то теперь почувствовал полное с обеих сторон отчуждение и с этим теперь живу.
30.11.1971. Лег вчера спать с мыслью начать жизнь сначала. Секрет возникновения подобных решений состоит в том, что в самой последней точке своего падения человек, коснувшись дна и поняв, что дальше падать некуда, отталкивается от него и опять выплывает.
Для тех, кто пал на низшую ступень,
Открыт подъем и некуда уж падать.
Шекспир. Король Лир. IV. 1.
Воли, самостоятельности во всем этом мало, а, скорее, имманентное развитие жизни, которая подсовывает человеку повод, изменяющий внутреннее состояние. Вчера таким поводом стало внезапно напавшее на меня сильное недомогание и крайний маразм, в котором я пребывал целый день, а вслед за тем столь же неожиданное загадочное выздоровление и «Жизнь Толстого» Ромена Роллана, которую я раскрыл где-то в час ночи.
Так активность рождается из пассивности, так лошадь стучит копытом – и так приходит воспоминание – рождается греза: между действиями. Усталость чувств исполнена творческой силы.
Валери. Тетради.
Но уже и мое «я» перестает меня заботить. Без особенной горечи, как-то до обидного незаметно, пережил я крушение всех своих надежд. Я просто расстался с ними. Я даже не заметил, когда они вышли из поезда. В какой-то момент я оглянулся и увидел, что я – один.
Возобновились мои занятия в художественной школе. Одна из сквозных идей, которые я пытаюсь внушить ученикам, – стилистическое единство каждой рассматриваемой нами эпохи, единство, связывающее между собой разные виды искусства.
Воистину поразительно и таинственно то тесное внутреннее единство, которое каждая историческая эпоха сохраняет во всех своих проявлениях. Единое вдохновение, один и тот же жизненный стиль пульсирует в искусствах, столь несходных между собой.
Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства.
Когда я замечаю, что мои слушатели утомились, я позволяю себе отвлечься на посторонние сюжеты, далекие от нашего материала. Казалось бы, далекие. Потому что на самом деле далеких сюжетов не бывает. Все стороны жизни, все свершения людей каждой эпохи связаны между собой неким характерным единством – общим кругом идей и способов их воплощения. Это единство с особенной наглядностью выступает при сближении «далековатых» явлений.
Вот, например, фаланга. Когда дорийцы противопоставили этот четко организованный линейный строй беспорядочной массе нападающих варваров, сразу добившись качественного преимущества, это знаменовало торжество архаического стиля над первобытным натурализмом. Затем Эпаминонд при Левктрах, растягивая свою жиденькую фалангу против внушительной (вследствие численного превосходства) фаланги спартанских гоплитов, выстраивает позади левого фланга глубокую, в 50 шеренг, колонну и ударом этой колонны, а также маневром «священного отряда» из глубины, сокрушает фланг Клемброта. (При Мантинее он уже все свое войско выстраивает колонной и проламывает ею фалангу антифиванских союзников.) Одоление сильнейшего противника достигается сосредоточением и перевесом сил в одном только пункте – это свободное, асимметричное перераспределение и сопоставление усилий, завершившее эпоху классики и само ставшее классикой тактического искусства, так же отличается от жесткого геометрического схематизма архаики, как «Дорифор» Поликлета от «Аполлона Тенейско-го». И, наконец, Александр, который при Гавгамелах, пропустив сквозь свои ряды налетающие серпоносные колесницы персов, контратакует плотным кавалерийским строем с загибающегося назад фланга охват превосходящих конных масс противника и раскручивает сражение в обратном направлении широким завитком, вихреобразным рейдом по тылам персидского войска от одного фланга к другому, на помощь теснимому Пармениону, а затем, оставив македонскую фалангу довершать дело на месте, гонит Дария 80 километров, до самых Арбел, – разве не находит это стилистического соответствия в разомкнутой в пространство живой подвижности «Апоксиомена» и леохаровой «Дианы-охотницы», открывших эпоху эллинистического «барокко»?
Можно еще сравнить «классицизм» Суворова, прямо, стремительно, этап за этапом, идущего к победному результату (Рымник), с «романтизмом» Кутузова, который сложными, парадоксальными маневрами заманивает противника в ловушку (Рущук)… Подобные экскурсы, пусть рискованные и поверхностные, будят, мне кажется, воображение ребят, приучают их к широте взгляда, заставляют отыскивать новую, неожиданную сторону известных явлений.
* * *
А те «проклятые» вопросы, которые волнуют нас в юности, – они ведь уходят не потому, что мы нашли ответы на них. Они просто замещаются другими вопросами, более узкими, более конкретными, более трезвыми и прозаическими. А к старости, должно быть, вдруг увидишь, что их и вовсе нет – тех «проклятых» вопросов, – что они сами собой как-то решились всей прожитой жизнью. И с ласковой снисходительностью будешь слушать, как твой внук задает тебе эти же вопросы.