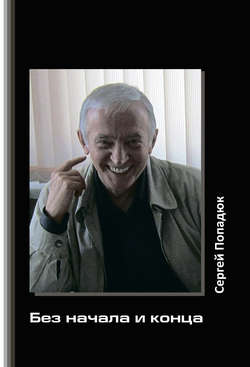Читать книгу Без начала и конца - Сергей Попадюк - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1970
В прошлом году. Напарник
ОглавлениеА потом появился Боб и сказал, что, по сведениям, полученным им от местных жителей, в пяти километрах отсюда, в Быкове, сохранилась еще одна деревянная церковь. Мы развернули карту. Быково лежало в стороне от нашего маршрута, почти на границе района, и оставлять его на завтра не имело смысла. Завтра вечером, самое позднее, мы должны были встретиться с нашими в Усмыни, а до Усмыни было еще далеко. Мы прошли сегодня около 15 километров по бездорожью и обмерили два памятника: помещичий дом в Пухново (куда подбросила нас машина, выделенная сельсоветом за помощь в скирдовании сена) и эту, белавинскую, церковь. День клонился к вечеру, и через час уже невозможно было бы снимать.
– Надо идти, – сказал Боб, испытующе глядя мне в лицо. – Ничего не поделаешь. Все равно ночевать здесь придется.
– Идти так идти, – вздохнул я.
И мы двинулись. Проходя по селу, увидели группу мальчишек, сидевших под забором. Они молча смотрели на нас. Вокруг них валялись на траве велосипеды.
– Ребята, – сказал Боб, – нам нужно по-быстрому смотаться в Быково. Если не успеем до темноты, Серега, – он кивнул в мою сторону, – не сможет фотографировать. Выручите нас, дайте два велосипеда.
Мальчишки, нахохлившись, молчали. Мы переминались в ожидании. Потом один из них, старший, сказал с досадой:
– Что же вы, жиды, молчите! Жалко вам, что ль?
– Тебе не жалко, ты и давай, – ответили ему.
– И дам!
Он вскочил и подкатил нам свой старый голенастый велосипед с шоферской баранкой вместо руля.
– Эх, и я дам! – воскликнул другой.
Его велосипед был дамский, приземистый. Я сел в седло. Цепь прокручивалась, и, изо всех сил работая педалями, я почти не двигался с места. Мальчишки хохотали.
– Ладно, – решил Боб, – бери этот и езжай вперед. Главное – сфотографировать, а обмерить можно и в темноте.
Мы поменялись велосипедами, и я помчался. Шел «пёр», как мы выражались, шла удача, ее не следовало упускать.
Меня трясло на корнях, колючие ветки хлестали по лицу; когда начинался песчаный подъем, я бежал, толкая тяжелый велосипед перед собой. Аппарат колотил меня по спине, а экспонометр раскачивался на груди из стороны в сторону. Промелькнула одна деревня, другая. Какая из них Быково, я не знал: пора сенокоса, и спросить не у кого, а соскакивать с седла, разыскивать «языка» времени не было. Я просто искал глазами силуэт церкви. Навстречу паренек вскачь на лошади.
– Где Быково?
– Вы ее проехали, дяденька. Во-он она!
Вернулся. И сразу стало ясно, что делать нам здесь нечего. Я все же сфотографировал то, что осталось от церкви, – для отчетности. Подъехал Боб. Мы навели справки, перекурили и не спеша двинулись обратно. Когда въехали в Белавино, Боб сказал:
– Давай зайдем тут к одной… Познакомлю.
(Он уже всюду здесь побывал, пока я возился с кроками у церкви.)
Мы прислонили велосипеды к забору, прошли мимо пылившихся на штакетнике кувшинов и стеклянных банок и поднялись на крыльцо. Боб уверенно толкнул дверь, и мы вошли в темные сени.
– Держись за меня, – сказал Боб и постучал.
За столом у окна сидела старушка, не по-деревенски прямая, опрятная, в накинутом на плечи вязаном платке.
Это была учительница здешней школы. Шестьдесят лет назад юной выпускницей Бестужевских курсов приехала сюда из Петербурга «вместе с товарищами» (как она выразилась), сжигаемыми, как и она, святой любовью к народу. «Товарищи» устроились на работу по соседству, в барановской усадьбе Родзянко, которую, кстати, спасли в семнадцатом от мужицких поджогов и вырубок, а она с тех пор так и жила здесь, в Белавино, сначала стоически свыкаясь с деревенским бытом и одиночеством, а затем и не замечая всего этого: отсутствия электричества, элементарных удобств, мыла, сахара, интересных воспитанных людей, мужской ласки… Весь энтузиазм нескольких поколений русской интеллигенции ушел на вскапывание огорода, выращивание картошки, запасание дров и керосина, топку печи, таскание воды из колодца, полоскание белья в проруби, да еще на обучение грамоте белоголовых «скобарей», которые уходили потом на Гражданскую и на Отечественную, в город и в лагеря, и никто не возвращался обратно, а «товарищи» померли давно или были ликвидированы; от прошлого остались лишь пожелтевшие кружевные воротнички, прямая спина, лучистая доброта в выцветших глазах. Она одна теперь тихо наблюдала ход истории в его обыденном преломлении – седая мышка, бессребреница, мудрый тростник…
(А вот старик из Встеселова, рассказавший, как в двадцатом, когда он служил в Москве, к ним в Спасские казармы затесался однажды маленький лысый человечек и все приставал к солдатам: как да что? Солдаты отругивались от дурака и гнали его прочь, а потом появился громадный матрос и бухнул, что сейчас перед ними выступит Ленин…
А вот коренастый мужчина, который возле замечательной лукинской церкви XVIII века, спокойно глядя на нас светлыми глазами, рассказал о том, как просидел в этой церкви все лето сорок первого, дожидаясь своей очереди: немцы регулярно расстреливали военнопленных, когда их накапливалось слишком много и не хватало для них места… Рассказывая, он прикасался пальцами к кирпичной стене и словно поглаживал ее, как, наверное, поглаживал и тогда. И каждое утро он проходит мимо нее по дороге на ферму…)
– Где бы нам переночевать? – обратились мы к Ване, возвращая ему велосипед с шоферской баранкой вместо руля.
– Да хоть у меня.
Он так и сказал: «у меня». Это был угрюмый паренек лет четырнадцати. Введя нас в избу, он объявил:
– Мать, они у нас переночуют.
Она налила нам молока («Пейте пока это, а сейчас парное будет») и нарезала черный глинистый хлеб.
– Что бы вам еще-то дать, нет у нас ничего.
– Принеси им сала, – сурово проговорил Ваня из угла.
Мы пили молоко из белых эмалированных кружек и ели хлеб с салом, а она вышла к корове. За окном скользили последние лучи солнца, но в доме было уже сумрачно. На лавке, укрытый с головой грязной овчиной, похмельным сном спал мужчина: из-под тулупа виднелся протез вместо ноги. Стены были оклеены пожелтевшими газетами 48-го года. Ваня возился по хозяйству: выходил и возвращался, шаркая сапогами.
Вернулась мать и налила нам парного.
– Пейте, не стесняйтесь, ишь как исхудали!
Она присела за стол и стала смотреть, как мы едим. Нам с Бобом и впрямь досталось сегодня. Она вздохнула несколько раз, потом сказала:
– Пойти воды, что ли, принести…
– Сиди, я принесу, – сказал Ваня.
Когда мы допили молоко, она заговорила с нами. Она спросила, что нового в Москве. Мы ответили, что уже давно оторваны от цивилизации и не знаем, что делается в мире.
– А вот по радио передали: американцы на Луну высадились. Неужто правда?
– Все может быть, – сказал Боб, посмотрел в окно и прибавил задумчиво, – глухомань у вас тут. Леса, озера… Ни дорог, ничего. Как же немец сюда добрался?
– Добрался, – ответила она. – Их здесь человек десять стояло, в Белавино. А нас – одни бабы (мужиков-то на войну позабирали). Когда враг близко подошел, нам из центра приказали коров на восток гнать. Мы и ушли с коровами. Но недалеко ушли: уж все вокруг занято было. Две недели, наверное, по лесу мыкались, потом голодать стали. Вернулись, а тут уж эти. Потом, когда наши пришли, разбираться стали: кто виноват, что коров немцам отдали? Виновных стали искать…
Ваня возвратился с водой и, взяв топор, опять вышел. Мы тоже вышли на крыльцо. Ваня в сумерках постукивал топором. Мать вынесла нам две телогрейки и овчину:
– Постелите себе на сеновале.
Сеновал оказался тут же, в доме, на чердаке; мы взобрались туда по приставной лестнице. В потемках, наугад, расстелили на сене телогрейки и мою штормовку, в головах бросили наш небольшой мешок с теплыми вещами, рулеткой и папкой, потом спустились и, присев на крыльце, закурили перед сном. Появился Ваня:
– Может, клуб наш хотите посмотреть?
Даже в густых уже сумерках я почувствовал, как ему хочется, чтобы мы с ним пошли.
– Пошли, Боб?
– Чего я там не видел?
– Пошли-пошли!
Клуб размещался в бывшем поповском доме – в избе, которая была чуть больше и лучше остальных. На крыльце сидели несколько девушек лет 15–16, и бегали, задирая их, мальчишки. Ваня широко повел рукой:
– Вот наша молодежь.
Нас разглядывали и пересмеивались. Ваня отомкнул замок на двери, и мы вместе с «молодежью» ввалились. Зажгли две керосиновые лампы. Вдоль бревенчатых стен стояли лавки. Одна стена была выпилена посередине, и комната за ней с поднятым полом служила сценой.
– Там и зарезался наш поп, когда церковь закрыли, – сообщили нам мальчишки. – Косой зарезался.
– Не косой, а ножом. Горло себе перерезал.
– А под церковью он, говорят, клад спрятал перед смертью. Только найти никто не может.
– Говорят, он сам иногда приходит и проверяет, цело ли. И плачет по ночам.
– А чего ж он плачет?
– Кто его знает… Жалко, наверное, что без дела лежит.
– У нас тут один хотел найти, да свихнулся. Федя-дурачок…
– А там, говорят, золото…
Мы расселись по лавкам вдоль стен, и началась игра в «ремешок». Посередине комнаты поставили табуретку, на нее положили чью-то подпояску. (Долго препирались, кто именно пожертвует свой ремешок, – это, видимо, входило в ритуал игры.) Наперебой объяснили нам правила. «Водящий» ударяет ремешком кого-нибудь из сидящих (парень ударяет девку, а девка – парня, при этом сил они, надо сказать, не жалеют), после чего, бросив ремешок на табуретку, должен успеть занять свое место на лавке до того, как вскочивший «осаленный» вернет ему удар, – тогда «водить» начинает «осаленный». Если брошенный ремешок падает на пол, остальные кидаются поднять его, и, если это им удается, «водящий» и «осаленный» (парень с девкой) должны выйти на крыльцо и поцеловаться.
Боб выходил один раз, но вернулся разочарованный: девушка сказала ему, что целоваться не обязательно. Я же, не поняв поначалу, что вся соль игры – в ее двусмысленности, играл слишком добросовестно, пока мальчишки шепотом не посоветовали мне бросить ремешок им, но было уже поздно: стали подходить старшие, и игра сама собою закончилась.
Прибывавшие парни были в черных костюмах и белых сорочках с расстегнутым воротом. Они входили по двое, по трое и, двигаясь вдоль лавок, за руку со всеми здоровались; дойдя до нас с Бобом, они вежливо представлялись, потом сами усаживались, сдвигая мелкоту в сторону. Многие были навеселе, но держались чинно. Девушки усаживались сразу, как входили. Хорошие платьица, белые туфельки на каблучках – должно быть, они шли сюда босиком и обувались только у клуба. Все они приходили из окрестных деревень за 10–15 километров. Было уже около полуночи, и Ваня сказал, что танцуют обычно часов до четырех. Он все время держался рядом с нами, молчал и ревниво прислушивался к нашим разговорам.
– Ваня, – сказал я, – мне очень нравится у вас. Кроме шуток, я первый раз такое вижу.
(Тут я немного кривил душой. В молдавском селе, в моих Гло-дянах, сестры однажды затащили меня на танцы; я пошел в драных джинсах и старой ковбойке, а потом мне было стыдно за свою столичную небрежность, потому что все парни там выглядели щеголевато – стройные, широкоплечие, в нарядных черных и красных рубашках, – и все было пристойно, как на великосветском балу, не то что на московских танцульках: девушек приглашали наклоном головы, без хамского хватания руками, танцевали красиво, изящно, а уж девушки – те были просто королевы!)
– Ха, горожанин! – сказал Боб, сам родом из весьегонской деревни, а ныне студент знаменитой Бауманки. – Пошли отсюда, спать охота!
– Погоди-погоди, – просил я, – еще немножко.
Они танцевали под баян: то двигались парами по кругу, притопывая и распевая частушки, то кружились в вальсе и покачивались в танго… Я смотрел, разинув рот.
– Ну, Серега, ты раскочегарился, – пробормотал Боб. – Ты прямо в разнос пошел.
– У нас не всегда так, – объяснил Ваня. – Бывают и драки. Только наши ребята – самые здоровые, всегда драчунов выставляют.
– Хорошо, Ваня, хорошо!
– Скоро твой разнос кончится? – ворчал Боб.
Потом мы возвращались из клуба в полной темноте, сопровождаемые толпой мальчишек. Пугая друг друга, они рассказывали нам о церкви, которая стояла неподалеку отсюда, на озере, на острове, и вдруг однажды на Пасху провалилась под землю с попом и прихожанами. И теперь, если приложить ухо к земле, во всякое время можно услышать пение и звон колокольный…
– Если хотите, мы свозим вас туда на лодке.
– Мы уходим завтра, ребята. Нам нельзя задерживаться.
Мы покурили еще перед тем, как лезть на сеновал, – молча, вздрагивая от ночной сырости, – и влезли, растянулись наконец на сене, укрывшись овчиной. Ваня забросал нас сеном для тепла и сам улегся рядом. Перед сном – так уж у нас повелось – я прочел «технарю» Бобу коротенькую лекцию об архитектурных стилях; на этот раз речь шла об ампире. Боб с жадностью и быстро схватывал новые знания и сразу же применял их на практике, а днем, в пути, нам некогда было разговаривать.
Чем же мы занимались? Тут был тройной интерес. Во-первых, благородная общественная польза. В том году в Институте истории искусств в Козицком переулке начал действовать возглавленный И.В. Маковецким сектор Свода памятников истории и культуры. И вот множество таких же экспедиций, как наша, разошлось по России, прочесывая район за районом и область за областью в поисках уцелевших церквей, бывших помещичьих усадеб, ценной исторической застройки, фотографируя, производя архитектурные обмеры, расспрашивая старожилов, делая записи. Предполагалось, что собранные материалы лягут в основу многотомного энциклопедического издания, которое отразит полный состав и состояние нашего исчезающего на глазах культурного наследия и, кроме того, будет способствовать его сохранению.
Во-вторых, деньги. Комплект материалов по одному объекту (паспорт, кроки, обмерные чертежи, негативы и фотоотпечатки) стоит около 30 рублей, так что за месяц полевых работ при известной сноровке можно свободно заработать по 1500 на человека – деньги немалые для студентов, из которых главным образом вербуются экспедиционные кадры. (Правда, следует учесть еще и камеральную обработку собранных материалов: заполнение паспортов, вычерчивание планов, комплектацию и т. д.) Вот почему, приехав вшестером в Псков по направлению министерства, отправленные областным управлением культуры в глухой Куньинский район, мы расходились в разные стороны звездными маршрутами – с тем, чтобы встретиться в намеченной точке и затем снова разойтись. Вот так мы с Бобом оказались напарниками.
И, наконец, отдых. Где еще, скажите, вы сможете так отдохнуть? Валяясь на пляже, вы консервируете накопившуюся за год усталость, а не избавляетесь от нее. И только в активном переключении нервной деятельности, в азартной погоне за сокровищами, резко сменив привычный образ жизни, отдыхаешь по-настоящему. Затерявшись среди лесов и полей, на дороге под открытым небом – и наплевать на погоду! – в движении, имея перед собой конкретную цель, физически выматываясь, питаясь чем бог послал и ночуя где придется, вступая в непринужденное общение с людьми, о существовании которых минуту назад не догадывался…
…Земля пахнет своим запахом, и все вокруг становится, как будто слушаешь сказку мира: в некотором царстве, в некотором государстве, при царе Горохе и так далее. Одним словом, человек заблудился, а ведь это-то и нужно художнику для восприятия реальности мира.
Пришвин. Дневник.
Разве сравнятся с этим какие-нибудь Гагры!
Мы поднялись рано, когда в селе стоял туман и все было черным на белом; мы поднялись рано, но все-таки позже, чем намеревались.
– Вот тут у меня твои разносы, – ворчал Боб, когда мы миновали клуб и пересекали небольшой луг за селом, приближаясь к темнеющей впереди опушке.
– Ходить надо побыстрей, – отозвался я, – тогда и успевать будем больше.
– Правильно. Мы же романтики, мы же деньгу зашибаем…
Сарай возник из тумана и остался позади; мы набирали скорость.
Утреннее солнце только еще начинало пробиваться сквозь туман, когда мы, быстро пройдя по лесу десяток километров, вышли к деревеньке Бараново. Усадьба Родзянко находилась несколько в стороне, на самом берегу озера.
– Вот он, ампир! – восхитился Боб, всмотревшись. – Всем ампирам ампир. Его ни с чем не спутаешь.
– Браво, Боб! Ты уже настоящий ампирметр.
Он ухмыльнулся:
– Давай, крокодел, покажи, на что ты способен.
Мы разделились: я направился к барскому дому – вычерчивать кроки для обмеров, а Боб – в деревню, отыскивать ключ от дома и собирать сведения. У Боба рука была легкая. Он умел найти и разговорить нужного человека, вежливо, но твердо направляя его воспоминания, отсекая лишние подробности.
На этот раз он отыскал старика, бывшего родзянкина кучера, и женщину, мать которой служила в усадьбе. Эта женщина повела нас к себе и накормила – после того как мы весь день промучились с обмерами (сложный план дома, да еще и парк пришлось мерить). Мы ели блины со сметаной, а ее муж, директор бездействующей летом школы-интерната, потчевал нас разговорами о деревенской жизни.
Уже вечерело, когда он перевез нас на своей лодке через озеро.
– Так вам короче будет, чем по берегу огибать.
Высадив нас на другом берегу, он еще раз вкратце перечислил ориентиры, которых нам надлежало придерживаться. Мы попрощались с ним, поднялись на круглый травянистый берег и зашагали по дороге на Дымово.
Дорога – поначалу различимая – быстро выродилась в едва заметную тропинку и вскоре совсем исчезла. Мы уже привыкли к таким эффектам и привычно заспорили, выбирая направление.
– Идем вот так, – решил Боб и показал рукой. – Не спорь, Серега, я же вырос в лесу.
Дороги не было. Мы шли глухим лесом, спешили, потому что солнце садилось, но все-таки замедлили шаг, когда почувствовали ритмично повторявшиеся кочки под ногами. Мы опустились на корточки и разгребли землю руками. Это были бревна, уложенные поперек пути вплотную друг к другу.
– Он же говорил, что здесь должна быть мостовая, – вспомнил Боб.
Электричества не было, дорог между деревнями не было в этом медвежьем краю, но была брошенная, почти забытая 15-километровая гать – мостовая, проложенная… бог знает когда!
Мы двинулись дальше. Теперь мы шли, ощущая под ногами древнюю «мостовую», по которой идти было неудобно, как по шпалам, но мы уже не покидали ее. Плечом к плечу мы ломились сквозь чащу и бурелом, с головой пропадали в зарослях щучки на полянах, спускались в овраги, переходили вброд ручьи, оставляя в стороне ядовитую болотную растительность, шли все дальше и дальше, и «мостовая» вела нас. И вывела наконец к дымовской усадьбе.
Солнце тем временем село, и все потемнели дороги.
Гомер. Одиссея. III. 497.
Кирпичный заброшенный дом, ничем не примечательный, стоял на высоком холме; в двух километрах дальше виднелась деревня на берегу широкого озера, а за озером, на том берегу, мерцали огонечки большого села Усмыни – конечный пункт нашего маршрута.
– Ну ее к черту, эту водокачку, – сказал я. – Время только потеряем.
– Ничего-ничего, – сказал Боб. – Не ампир, конечно… Ты давай тут, а я мигом…
И он исчез, сбросив мешок на землю. (Он был прав: материалы по этому дому у нас потом с руками оторвали в Козицком.)
Я сделал несколько снимков на предельной выдержке, затем вычерчивал кроки, а когда все было кончено, позвал: «Боб!» Никто не откликнулся. Я еще покричал, но было тихо. Лес вплотную подступал к мрачному пустому дому, и деревня была далеко, и уже почти ничего не было видно в темноте. «Может, он где-нибудь тут убился, отыскивая лаз в запертый дом?»
– Борька-а!
Я чувствовал, что он не мог уйти далеко. Становилось страшновато.
Около получаса я бродил в темноте вокруг дома, кричал, присаживался возле нашего мешка, закуривал, но тут же опять вскакивал и снова ходил, ожидая невесть чего. Потом раздался треск мотоцикла, стремительно взлетела на холм и надвинулась ослепившая меня фара, и Боб прошел мимо, бросив на ходу:
– Вот Петр Иванович, бригадир, отопрет нам и поможет обмерять. И подбросит до Усмыни.
Рослый паренек лет восемнадцати, в телогрейке и кепке, пожал мне руку и степенно представился:
– Петр Иванович.
Мы обмеряли дом, чиркая спичками, оступаясь и матерясь,
– Петр Иванович «держал ноль» и послушно перемещался от одного угла к другому, я считывал показания мерной ленты, а Боб заносил их на кроки, – после чего Петр Иванович смущенно сказал:
– Двоих сразу не смогу: рессоры у машины слабоваты. Давайте по одному.
– Езжай, – сказал мне Боб, – ты тут натерпелся. Бери мешок, а я пешком пойду.
Я сел на заднее седло мотоцикла и взялся за бока Петра Ивановича; мотор взревел, мы помчались.
– Не бойся! – кричал сквозь ветер Петр Иванович. – Держись только крепче! А то ухабы, знаешь…
Мы пронеслись по деревенской улице, где уже ни одно окно не светилось, и полетели по берегу озера.
– Хорошая вещь – мотоцикл! – кричал мне через плечо Петр Иванович. – У вас на каких марках ездят? У нас тут нельзя без него: видишь, какие расстояния. Как праздник какой-нибудь – съезжаемся на кладбища, гуляем… Бабушки в церковь подаются, в Великие Луки, два дня добираются, а мы – на кладбища. Ближе-то нет ничего. Все церкви позакрывали да поломали. Вы церкви тоже обмеряете? Хорошее дело… Вот она, Усмынь! Тебе куда, к интернату? Приехали… Сейчас я за твоим дружком сгоняю.
И вот я вхожу в комнату с бревенчатыми стенами. За окнами глубокая ночь, а здесь горит свеча на столе в окружении пустых бутылок, раскрытых консервных банок, объедков; в углу свалены рюкзаки, а с коек приподнимаются, поворачиваются ко мне и радостно улыбаются знакомые рожи.
– Привет!
– Мы уж не ждали вас сегодня.
– А где Боб?
Я прохожу к столу.
– Всё выпили уже, подлецы?
– Конечно… нет, ну что ты, – говорит Мишка Андреев и лезет под койку.
За окнами треск мотоцикла, и входит Боб, улыбаясь от уха до уха:
– Мы с Серегой…
* * *
3.08.1970. «Родной мой мальчик! Вот уехала от тебя, а чувство такое, словно предала, словно изменила. Словно Красную Шапочку бросила в темном лесу. Нет человека, о котором я думала бы больше, чем о тебе. И не помню, чтоб я думала о тебе когда-нибудь с большей тревогой, чем сейчас.
Я помню, как я рвалась из Переделкино: пожить вдвоем, дружить на всю катушку говорить о главном – целые вечера. Не вышло. Не хочу говорить, почему не вышло. Было трудно, было оскорбительно. Ты кричал, я обижалась. Я всего-навсего человек: я обижаюсь, когда на меня кричат. И когда ты уехал в Ярославскую область, я вздохнула с облегчением: теперь никто, никакой Сергей Попадюк не мешал мне любить моего единственного сына. Я не спала ночь после твоего отъезда от звериной тоски по тебе. А на следующий день написала тебе письмо, очень большое. И не отдала его тебе – потому что там было слишком много эмоций. А надо было писать спокойно и вразумительно, и не о том, что меня обижает или выбивает из колеи, а о том, что мне внушает тревогу. Потому что я прежде всего жалею и понимаю тебя. Потому что я очень о многом хочу написать. О твоем будущем – как я его представляю. О твоей работе. О твоем характере. О твоей семье. Видишь – о многом. Я не хочу ни торопиться, ни комкать. А вот так буду потихоньку беседовать с тобою – изо дня в день. А может, напишется как-то иначе… Что я могу знать заранее?
Итак, о твоем будущем или, вернее, о твоем призвании. О самом главном сейчас для тебя.
О самом главном, потому что, как это ни странно, ты в третий раз в жизни – в третий! – вновь выбираешь, вновь мучительно прикидываешь свою судьбу. Бедный мой сын, которому, по самым глубинным свойствам его характера, за глаза хватило бы и одного раза. Ты думал об этом после школы, думал после армии… Думаешь теперь, после получения диплома, «когда не думает никто». В тайниках своей души ты готов все переломать и все начать сызнова – и сделал бы это, если б не чувствовал ответственность перед всеми нами и если б знал совершенно точно, ради чего можно пренебречь даже этим.
Если б ты знал, как тебя выдает даже твой почерк этот максимализм, это несытое честолюбие, эта жадная впечатлительность – и сомнение, неуверенность в своих силах, душевная зыбкость, ужас внутренний перед тем, что притязания твои могут на поверку оказаться жалки и неправомерны. Меньше всего ты хотел бы стать пошлейшим комментатором чужого творчества, бессильно претендующим при этом на что-то свое… Человек, умеющий работать, – ты с ужасом встречаешь каждый новый день, который требует определенности и каких-то решений, – и втыкаешься в чтиво или в телевизор или нагоняешь полный дом гостей, чтоб как-то поскорее его избыть. Во всяком случае, при мне было так. Я бы счастлива была узнать, что ясная моя умница, моя гордость, мой сын выбился наконец из этого маразма.
Но будем говорить по существу. Я не знаю точно, но мне кажется, что человек ты, прежде всего, пишущий. Ты все равно будешь писать, и все метания твои сейчас – это метания человека, пожирающего внешние впечатления – для того, чтоб писать. Ничего тебе, в сущности, не нужно, кроме встреч, разговоров, душевных касаний, нечаянных контактов и прочих радостей пишущего бродяги, открытого всему. Почему я понимаю все это – не потому ли, что сама такая? Я очень легко угадываю все это в тебе.
Но я и другое знаю. Знаю, что в так называемом творчестве ты начинаешь с того, чем я заканчиваю. Время такое. Для того, чтоб писать всерьез, нужна вера в себя, нужен успех, а успех сейчас может прийти только через банальность. И нужно иметь мужество отказаться от успеха. От признания. От всякой возможности писательской профессионализации. Сейчас это невозможно – при твоем неординарнейшем душевном складе. В нем твое счастье, но в нем же твое несчастье. Это все-таки не фраза: стоящие люди никогда не живут легко. И талантливые всерьез не живут легко, особенно сейчас. И потому не думай-ка ты о профессионализации. Хочешь писать – пиши. Пиши, вставая в 6 утра. Пиши, ложась в 4. Писала же я, кормя грудного ребенка. Уезжая в эвакуацию и возвращаясь оттуда. Не бросая работы в школе ни на минуту. Все свои книги – все! – не бросая работы в школе.
И это – второе, мой милый. Необходимость профессии. Профессии не слишком противной. Профессии, в которой ты тоже сможешь что-то такое дать. Эта профессия у тебя в руках, как я понимаю. У тебя – диплом. У тебя – возможность учиться дальше. Ты видишь искусство по-своему, говоришь о нем по-своему, пишешь по-своему. Это то, что даст тебе возможность занять свое место в обществе. Зарабатывать деньги. Кормить семью. Самое главное – это то, что даст тебе в конечном счете возможность самовыражения – свободного, независимого, т. е. незаурядного, – высокого творчества.
Я ничего нового тебе сейчас не пишу. Мы говорили об этом тысячу раз. Но я вынуждена писать об этом снова, потому что ты снова и снова мечешься. Потому что ты каждый день все решаешь сызнова и живешь сызнова, и это самая мучительная черта у тебя. Голубчик мой, успокойся хотя бы в этом – в определении жизненного своего пути. Успокойся, все правильно. Ты все правильно выбрал когда-то и все правильно рассчитал. Закрепляйся на достигнутых рубежах, реализуй накопленное: упования профессуры, интерес к тебе, уважение к твоей работе… Это все уже твое – и это очень немало. Ты много имеешь в свои 27 лет: любящую жену, очаровательного сына, прекрасных друзей. Ты образован, умен, талантлив. Михандр говорит мне в интимной беседе: “Он далеко пойдет”. Тебе – одному из немногих – дана рекомендация в аспирантуру. То, что ты пишешь для себя, читается всерьез. Что нужно, чтобы избавить тебя от подростковых комплексов и юношеских метаний? Ты уже состоявшийся человек, а чувствуешь беспрестанную потребность самому себе что-то доказывать…
Повторяю еще раз: не мечись, не суетись, – все правильно. Это ужасно трудно, что жизнь огромна, что возможности ее неисчерпаемы, и переполненное возможностями сердце так же тяжело нести, как перетруженные за день руки…»
* * *
Что же я умею на этом свете? Умею я многое, но что я умею, как никто? В чем заключается мое особое ремесло, мастерство, в котором я превосходил бы всех прочих? Где тот случай, то кульминационное стечение обстоятельств, когда должны позвать меня – только меня и никого больше?