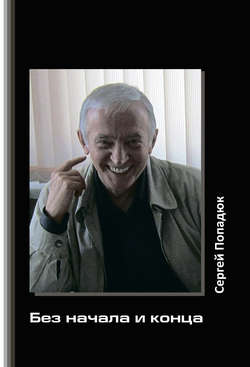Читать книгу Без начала и конца - Сергей Попадюк - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1971
Оглавление* * *
26.01.1971. Вот уже полтора месяца провожу занятия в художественной школе. Ребята, как я и ожидал, замечательные; отсидев полдня в общеобразовательной школе и другие полдня – на живописи или рисунке, вечером они являются ко мне, в угловую комнату с полукруглой стеной, хотя никто их не неволит (занятия факультативные); и уж для тех, кто приходит, я выкладываюсь полностью, до донышка, ничего не оставляю про запас. Слушают внимательно, а когда я, потеряв, по неопытности, самообладание, проваливаюсь в косноязычие или, запнувшись, долго мычу в поисках нужного слова, они ободряюще мне кивают. Некоторые даже конспектируют лекции, хотя трудно различить – конспектируют или пользуются мною как бесплатной моделью для набросков.
Читаю им историю древнерусского искусства. Очень удачно получилось: книга, которую мне заказали в «Искусстве», – популярное издание, предназначенное как раз для таких же мальчиков и девочек, – движется параллельно с моими занятиями. Три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам – повторяя одно и то же (для разных групп), я постепенно совершенствую свой импровизированный текст и, кроме того, прихожу к его пониманию. Когда объясняешь что-то, что, как тебе кажется, ты отлично знаешь, – только тогда и начинаешь понимать это по-настоящему.
Да, да, сначала объясним, а потом поймем – слова за нас думают. Начнешь человеку объяснять, прислушаешься к своим словам – и тебе самому многое станет яснее.
Вагинов. Козлиная песнь.
Когда перед ожидающими глазами аудитории ты вынужден сейчас, сию минуту найти нужное слово, все твое существо, сконцентрировавшись, делает неимоверное усилие, и слово находится быстрее, чем за письменным столом. И садясь в субботу к письменному столу, я записываю уже почти готовое.
* * *
С тех пор, как я приступил к этим занятиям, жизнь моя вошла в колею, стала внутренне оправданной.
Оправданий для бездействия всегда можно найти сколько угодно, одно только дело само себя оправдывает.
…Увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это – доля его…
Екклесиаст. III. 22.
Постоянно, изо дня в день, с душой и с полной отдачей сил выполняемое дело становится твердой основой поведения, которая в любых обстоятельствах позволяет действовать однотипно, а вместе с тем и свободно, и не колебаться при выборе.
– Добудьте Бога трудом; вся суть в этом, или исчезнете, как подлая плесень; трудом добудьте.
Достоевский. Бесы. II. 1. 7.
В наши дни это особенно важно. Нет, кажется, человека, который был бы согласен с существующим порядком, вернее, беспорядком, вещей: нравственная природа не может с ним мириться. Но и те, кто пытается противодействовать ему (абсолютное меньшинство), и те, кто к нему приспосабливается, действуя в его духе, лишь увеличивают беспорядок. (В данном случае не важны мотивы, двигающие теми и другими, – важно общее направление происходящего «прогресса», которое они вряд ли сознают, ослепленные своими ближайшими целями, но которому, тем не менее, объективно способствуют.) Я уж не говорю об аморфном, равнодушном большинстве, которое своей социальной тяжестью стабилизирует существующее положение, но в критический момент способно сразу значительно усилить амплитуду противоречий, превратив беспорядок в хаос.
Что толку, что моя политическая проницательность предугадывает пришествие какого-нибудь Бонапарта? Я, значит, должен немедленно стать бонапартистом и включиться в борьбу за ускорение и успех этого пришествия? А если я якобинец и мои убеждения заставляют меня всеми силами противодействовать бонапартизму? Тогда, включившись в борьбу на противоположной (обреченной) стороне и побуждая таким образом противника к консолидации его сил, я все равно – как это становится ясно задним числом – буду способствовать победе Бонапарта. Такова логика истории.
А вот ее мораль: если ты предвидишь неизбежный ход истории, ты должен сделать так, чтобы твои интересы совпали с этим движением, ты должен связать их с идущей наверх и побеждающей силой; только тогда ты окажешься на гребне событий и сможешь подчинить их себе, только тогда твоя воля получит полное применение. Такова свобода по Энгельсу. Учение «марксидов», и впрямь, всесильно… ибо оно конформно.
Нет ничего более лживого, чем порочное суеверие, оправдывающее преступления волей богов.
Тит Ливий, История от основания Рима.
(Не надобно забывать, что любимым героем Маркса был Прометей – единственный из титанов, кто сражался на стороне богов, потому что предвидел их победу. Правда, это не помогло ему обмануть Зевса, когда настало время делить жертвенного быка.)
Но Бонапарты приходят и уходят, революционеры уничтожают контрреволюционеров, потом друг друга, потом их уничтожают рвущиеся к власти последователи. Остаются Талейраны – большие и маленькие – тысячи Талейранов, приспосабливающихся к любым условиям и в любых условиях выплывающие на поверхность.
Плоды смуты никогда не достаются тому, кто ее вызвал; он только всколыхнул и замутил воду, а ловить рыбу будут уже другие… Но если зачинатели и приносят больше вреда, нежели подражатели, то последние все же преступнее первых, ибо они следуют образцам, зло и ужас которых сами они ощутили…
Монтень. Опыты. I. 23.
И остаются бесчисленные безликие массы, силами и интересами которых пользуются и манипулируют преходящие Бонапарты – тот самый мифический «народ», который кровью своей без конца оплачивает политические игры…
Послушаем лучше Герцена: «…Я не советую браниться с миром, а начать независимую, самобытную жизнь, которая могла бы найти в себе самой спасение, даже тогда, когда весь мир, нас окружающий, погиб бы. Я советую вглядеться, идет ли в самом деле масса туда, куда мы думаем, что она идет, и идти с нею или от нее, но зная ее путь; я советую бросить книжные мнения, которые нам привили с ребячества, представляя людей совсем иными, нежели они есть. Я хочу прекратить “бесплодный ропот и капризное неудовольствие”, хочу примирить с людьми, убедивши, что они не могут быть лучше, что вовсе не их вина, что они такие». И дальше: «Вместо того, чтоб уверять народы, что они страстно хотят того, что мы хотим, лучше было бы подумать, хотят ли они на сию минуту чего-нибудь, и, если хотят совсем другое, сосредоточиться, сойти с рынка, отойти с миром, не насилуя других и не тратя себя. Может, это отрицательное действие будет началом новой жизни. Во всяком случае это будет добросовестный поступок»1.
А затем следует великолепный этюд об «иностранцах своего времени» – позднеримских философах, живших между умирающим языческим миром и нарождающимся христианством, одинаково чуждых тому и другому, чувствовавших себя «правее обоих и слабее обоих»:
«…Разве те, которые… были тверже характером и умом и не хотели спасаться от одной нелепости, принимая другую, достойны порицания? Могли ли они с Юлианом Отступником стать за старых богов или с Константином за новых? Могли ли они участвовать в современном деле, видя, куда идет дух времени? В такие эпохи свободному человеку легче одичать в отчуждении от людей, нежели идти с ними по одной дороге, ему легче лишить себя жизни, нежели пожертвовать ее. (…) Неужели человек менее прав оттого, что с ним никто не согласен? да разве ум нуждается другой поверки, как умом? И с чего же всеобщее безумие может опровергнуть личное убеждение? (…) Мудрейшие из римлян сошли совсем со сцены и превосходно сделали. Они рассеялись по берегам Средиземного моря, пропали для других в безмолвном величии скорби, но не пропали для себя – и через пятнадцать столетий мы должны сознаться, что собственно они были победители, они единственные, свободные и мощные представители независимой личности человека, его достоинства. Они были люди, их нельзя было считать поголовно, они не принадлежали к стаду – и не хотели лгать, а, не имея с ним ничего общего, – отошли. Одно благо, остававшееся этим иностранцам своего времени, была спокойная совесть, утешительное сознание, что они не испугались истины, что они, поняв ее, нашли довольно силы, чтоб вынести ее, чтоб остаться верными ей.
– И только.
– Будто этого не довольно? Впрочем, нет, я забыл, у них было еще одно благоличные отношения, уверенность в том, что есть люди, также понимающие, сочувствующие с ними, уверенность в глубокой связи, которая не зависима ни от какого события…»2
…И сия есть победа, победившая мир, вера наша.
Ин. I. 5.4.
Не Прометей наш герой, но Геракл – странник и добросовестный труженик, истребитель чудовищ, богоборец.