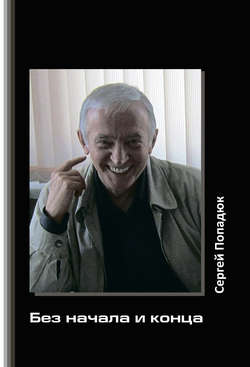Читать книгу Без начала и конца - Сергей Попадюк - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1970
Не напрасно (воспоминание)
ОглавлениеОдна за другой машины притормаживали перед воротами КТП, затем сворачивали влево по шоссе: колонна двинулась в сторону Бокино. Остались позади кирпичные корпуса казарм, прямые дорожки в лозунгах, плацы, столовая, баня с высокой трубой, склады, финские домики военного городка, караульное помещение и гауптвахта. Мелькнули за колючей проволокой серебристые цилиндры ГСМ, и шоссе вынеслось в степь.
Колонна растянулась. Грузовики шли с равными интервалами, и казалось, что не катятся они, а неподвижно стоят на несущейся к горизонту ленте шоссе. Потом началась гонка.
Моторы взвывали, увеличивая скорость. Задние машины подтягивались и, настигая, обгоняя одна другую, приближались к передним, а те, маневрируя и газуя, не давали задним вырваться вперед. Колонна сбилась в плотный грохочущий ком. Азарт шоферов передался и нам – мы стояли по трое в каждом кузове.
– Давай, давай! – колотили по кабинам.
Мы держались друг за друга и пружинили ногами, когда кузов подбрасывало. Пилотки пришлось запихать в карманы, ветер рвал отросшие за зиму волосы. В кузовах гремели лопаты. Мы ехали в Котовск, за шлаком.
Шоссе было прямое и сверкало против солнца. Встречных не было, грузовики шли рядами. Отстающие медленно уползали назад и грозили кулаками, потом так же медленно ползли вперед, и тогда мы им грозили. Ничего не было слышно, кроме рева моторов.
– Давай! Давай!
Ряды ломались. Чтобы обогнать, вылетали за обочину и мчались без дороги. Степь неслась навстречу. Потом свернули с шоссе на проселок, и грузовики рассыпались в степи, как конница.
Грузовики мчались по степи, кренясь на поворотах, проваливаясь в низины и отчаянно взлетая на бугры. Машины бросало. Мы стояли в треплющихся кузовах, мы пригнулись к самым гривам и летели, гремя бортами, тройка за тройкой, обнявшись на широко расставленных ногах. Ветер оглушал, гимнастерки надувались шарами.
– Дава-ай!..
Котовск прятался в сосновом лесу, словно на дне колодца. Тихий городок наполнился громом, замелькали заборы. Машина за машиной врывались на территорию маленького завода, натужно карабкались между горами шлака и наконец остановились. Запахло перегретым металлом. Мы попрыгали на землю с лопатами в руках.
– Ого! – сказали. – Бери больше, кидай дальше…
Присвистнули. И полезли наверх.
Гора шлака, на которую мы влезли, была повыше заводских построек, но ниже сосен; мы облепили ее. Отсюда весь городок был – как на ладони. Мы стали бросать шлак, он громко ударился в пустые кузова.
Как только мы бросили первые лопаты, шлак под нашими ногами задымился: он был еще свежий и не прогорел. Серный запах перехватил дыхание.
– Понятно, – проговорил Сашка Платицын. – Других охотников не найдется. Эх, начальники!..
Но было не до разговоров. Скорость дороги все еще владела нами, и азарт гонки не прошел.
– Давай, чего там!
Дымящиеся горсти шлака так и полетели. Дым пошел гуще, стало трудно дышать. Вся наша гора окуталась дымом. Мы работали в сплошном дыму.
– Дымишься, гадина?
Гора кишела нами. Мы копали ее, как сумасшедшие, не видя друг друга, кидая наугад; шлак душил нас. Кто не выдерживал – скатывался, съезжал с горы, а отдышавшись, опять лез наверх, в пекло. Слышен был лишь спешный скреб лопат – он заглушал проклятия и кашель.
– Давай! Давай!
Лопаты захлебывались.
Конечно, это было глупо – так спешить, – потому что работать предстояло весь день, и завтра, и послезавтра тоже; не работа была нам определена, а количество рабочего времени; торопясь, мы только прибавляли себе работы. Но мы спешили изо всех сил и в полчаса закончили погрузку.
– Хорош! – закричали снизу шоферы. – Хватит! Поехали!
Мы спустились, волоча лопаты. Гора дымилась, как действующий вулкан. Залезая в кузова, оборачивались: снизу наша работа представилась нам исполинской.
– Ну и ну! – удивились. – Как мы ее…
– Правду, значит, говорят: два солдата бульдозер заменят, а три – экскаватор.
– Ты-то, Генка, и за патефон сойдешь.
– На шлак не садитесь, – предупредил Сашка Платицын, – без порток останетесь.
Машины тронулись. Покачиваясь и гремя бортовыми цепями, выкатились в городок. Потянулись мимо заборов, крылечек, окошек с занавесками и геранью, развешанного на веревках белья. За каждой машиной вился дымок тлеющего шлака. Под голубой вывеской остановились, как по команде, и мы опять спрыгнули на землю.
Грязные, потные, ввалились в магазин. Там было темно и прохладно, и было пусто.
– Сбрасываемся, парни!
– Ну, погнали!..
Пили у магазина, на улице. Бутылки, переходя из рук в руки, задирались донышками кверху.
– Давай!..
Выпили и пошли вдоль заборов.
– Ну и городок! Одни заборы. Хоть бы навстречу кто попался.
– А воздух! Тишина! Хорошо-то как, братцы!
– Попрятались они, что ли? Эй, люди!
– Смотри: чувиха! Девушка, идемте с нами! Ишь ты, улыбается…
– Ты на рожу свою погляди, Святой.
– А Жан прожег-таки задницу. Ты чего, Жан?
– Да так. Повело меня что-то с непривычки.
Мы гурьбой шли по улице, по самой середине. Шли, обнявшись, Наташов и Олежка Купалов, загорланили песенку из польского фильма:
Мы сидели близко, близко,
А бармен пел нам по-английски…
О, Сан-Франциско!
Нам было весело. Мы хорошо поработали и выпили, а теперь гуляли. В ушах все еще стоял грохот отчаянной гонки; от сумасшедшей погрузки гудели плечи. Это было не так уж глупо – что мы спешили.
Наши ЗИЛы, нагруженные доверху шлаком, ждали нас в конце улицы, на выезде из городка.
…По лесистому склону машины спустились к мосту. За рекой виднелась деревня, женщины полоскали на песчаной отмели. На мосту затормозили, и прямо с грузовиков мы бросились в воду.
Мы быстро раздевались и прыгали. Машины подходили одна за другой. Мост был уже забит, останавливались на спуске и, соскочив, бежали к берегу. На бегу срывали грязные гимнастерки. С хохотом и свистом врывались в реку, и река выплескивалась из берегов. Словно вихрь налетел: женщины с того берега исчезли.
– Дава-а-ай! – неслось над рекой.
Вода кипела между горячими телами. Блестящие, разные, все белые, только лица и руки черные – коротко мелькали с моста, с берега и с плеском и смехом выскакивали по пояс – разинутые рты, мокрые волосы, сверкающие брызги до неба… Выбегали и снова кидались. Лето было в разгаре.
Вода ласково обнимала – тугая, прохладная. Она была совсем не такой в начале апреля, когда грузовик свалился с понтона. Двое наших утонули тогда.
Весна в этом году пришла стремительно. Мы возвращались из дальнего караула, а река вскрылась за одну ночь и затопила пойму. Плыли льдины, заборы, деревья, было сильное течение. Мост снесло, но навстречу нам выслали саперов с амфибией и понтоном. Мы все оказались в воде: цеплялись за льдины, за вынырнувший понтон – кидали автоматы, потом вылезали сами. Объятия воды были злыми тогда и не хотели разжиматься. Двое не вылезли. «Двух автоматов не досчитались», – сказал Генка Черкасов. Длинный ряд сапог выстроился в коридоре санчасти. Через неделю выловили Гришку Сомова, и гробы стояли в клубе, но мы туда не ходили. С тех пор снимаем пилотки, когда случается проезжать по новому мосту. Это ниже по течению, на рассказовском шоссе.
…Смеясь и отплевываясь, выходили на берег. Толкались, шлепали друг друга по голым спинам. Разыскивали одежду и натягивали на мокрое. Грузовики ждали нас на мосту. За мостом виднелась деревня, а дальше лежала степь, по которой мы мчались утром. Это было совсем не глупо – что мы так спешили.
В этот день я, подобно Фрэнсису Макомберу, наконец почувствовал себя мужчиной.
* * *
30.11.1970. Экзамены я сдал. И вот сижу, размышляю: неплохо бы к аспирантской стипендии какой-нибудь приработок. Какой? Самое лучшее, думаю, – преподавать в своей художественной школе, которую окончил ровно десять лет назад… И тут – телефонный звонок Нина Николаевна, директриса, отследив каким-то образом мою карьеру, предлагает вести историю искусства в старших классах. Вот это совпадение!
24.12.1970. Сообщение в газетах: помер Шверник. Выбывают старики, на их место приходит третье, что ли, по счету поколение партийной бюрократии, выдвинувшееся во времена коллективизации и «развернутого строительства», те, кто сумел совместить идейность с волчьими законами и быстро шел вверх, распространяясь по каждой ступеньке, вытесняя, скидывая устаревших, не таких проворных, не таких беспринципных, – кто добрался наконец до самого сладкого пирога и теперь благодушествует, зорко при этом высматривая, как бы кто из соратников не отхватил больше положенного. Короче говоря, сейчас правят узкие, прямолинейные администраторы, которые, в отличие от предшественников, исповедовавших марксизм как религию, усвоили лишь несколько наиболее элементарных истин марксизма применительно к своему деловому и придворному опыту.
Марксизм – идеология практичной и прагматичной, главное – активной серятины. Он чрезвычайно удобен для нищих духом – своей простотой, убедительностью, чисто внешним сведением концов с концами, «диалектическими» возможностями, примитивными и громкими лозунгами – всем тем аппаратом, который создает у серого человека иллюзию самостоятельной мысли, проницательности, несокрушимой правоты.
Есть истины, которые лучше всего познаются посредственными головами, потому что они вполне соответствуют им; есть истины, кажущиеся привлекательными и соблазнительными посредственным умам…
Ницше. По ту сторону добра и зла. VIII. 253.
Читая «Вехи», я поразился 60-летней пропасти, провалу в нашем мышлении. На той стороне пропасти была – мысль. Она была свободна и смела, она не боялась ошибиться, а главное – она жила, она двигалась…
С тех пор мыслители разделились на две категории: попки без конца повторяют одни и те же затверженные формулы, упирая главным образом на то, что «учение Маркса всесильно, ибо оно верно», а дятлы уныло долбят в одну точку, пытаясь приспособить эти формулы к новым веяниям. Они правы, они всегда правы, прав любой тупица, постулирующий, что «бытие определяет сознание» или «история есть борьба классов», – это правота стены, выстроенной идиотом поперек проезжей дороги.
– Соблазнительно ясно, и думать не надо! Главное – думать не надо!
Вся жизненная тайна на двух печатных листках умещается!
Достоевский. Преступление и наказание. III. 5.
«Начинаешь ненавидеть все правдоподобное, когда его выдают за нечто непоколебимое», – говорит Монтень. Черт возьми! уж лучше верить в то, что заведомо нелепо.
– Да, я сознательно выбрал эту упрямую слепоту в ожидании того дня, когда буду видеть яснее.
Камю. Чума.
Но дятлы несомненно умнее попок. Вынужденные противостоять мыслящему, т. е. гибкому и разнообразному противнику, но связанные в то же время необходимостью приходить к заранее известным выводам (вроде того, что коммунизм есть неизбежная цель всемирной истории, а сталинщина была лишь временным искажением ленинских идей), они превратили марксизм в изощренную схоластику; до «бога» им уже дела нет, да они в него и не верят, – с лихорадочной поспешностью перехватывают они чужую терминологию, по-своему интерпретируют чужие успехи и одерживают пирровы победы в идеологических боях. Они уступают пядь за пядью, маскируя уступки потоком софистических тонкостей. Приспосабливая марксизм, они его видоизменяют и постепенно изменят до неузнаваемости – до того, что его нельзя будет и дальше называть марксизмом. В конце концов принципиальные установки и предопределенные выводы полностью отделятся от самого хода усложнившегося мышления.
Когда-нибудь это «развитие» взорвет догматизм изнутри. Может быть, это произойдет незаметно. Может быть, на смену этому догматизму явится другой, более утонченный и вместе с тем более откровенный, который прямо скажет: я господствую не потому, что прав, а потому, что за мной сила, и оттого я прав, а вы мне покоряйтесь, хоть я и знаю, что вы не только думаете, но и не можете не думать иначе. Вероятно, это произойдет лет через 10–20, когда сегодняшние старики будут вытеснены поколением нынешних молодых карьеристов, лицо которых уже вполне определилось.
Прежде всего, конечно, воля к власти, активность и жизнеспособность; затем откровенное стремление к правовой и моральной неограниченности (им все позволено); и, наконец, своеобразная «прогрессивность» – идеологическая гибкость, переходящая в цинизм (хорошо все то, что позволяет им властвовать наилучшим образом, т. е. пользоваться тем, что дает власть). Короче говоря, окончательно сложился и приобрел четкие очертания тот специфически советский тип шкурника, о котором предупреждал Бердяев как о закономерном следствии господства бюрократии.
Критерий качества державы —
успехи сук и подлецов;
боюсь теперь не старцев ржавых,
а белозубых молодцов.
Губерман. Гарики.
Теперь это господство все откровеннее заявляет о себе как о самодовлеющей цели, и тот, кто осознал это, не нуждается уже не только в «идеях», но и в устаревших догмах, – он просто пользуется прямыми средствами для достижения цели. Даже демагогия ему не нужна (если он и пользуется ею, то только для формального приличия), потому что в своем стремлении к власти он опирается на сложившийся социальный слой таких же шкурников. Их и обманывать не надо, их устраивает все, что содействует личному благополучию. К остальному они равнодушны, они просто не желают ничего знать.