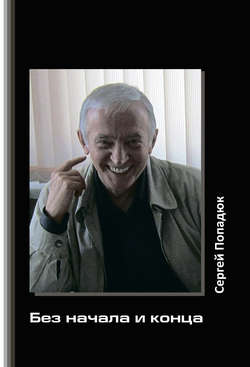Читать книгу Без начала и конца - Сергей Попадюк - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1971
Скобари
ОглавлениеОни совершенно таковы, какими увидел и описал их Гербер-штейн в XVI веке и какими сами они предстают в своих летописях, – мягкие, терпимые, открытые всему, умеющие, в отличие от самолюбивых, взрывчатых новгородцев, подтрунивать над собой. Вот, хотя бы, пассаж о начале военных действий 1407 г.: «Князь Данила Александрович и посадник Юрьи Филипович, подъемше всю свою Псковскую область, поидоша в Немецкую землю… и поимаша на рубежи на Серици 7 немчинов»3. (Стоило ли поднимать всю Псковскую область, стягивая ополчение из Порхова, Гдова, Изборска, Опочки и других «пригородов», чтобы поймать в результате семерых «немчинов»…) Так и чудится простодушно-ироническая усмешка! Но за простоватой внешностью – живой, практичный ум, такт и врожденная культура, за уважительной уступчивостью – бесстрашие и стойкость. Чего стоит одна только история с несчастным Александром Михайловичем, тверским князем, искавшим в Пскове защиту от Калиты, который подступал к городу с войском, выполняя повеление хана Узбека – изловить и доставить беглого мятежника. Но псковичи сказали: «Не ходи, князь, в орду, и аще что будет на тебе, то изомрем с тобою во едином месте». И стояли бы до конца, если бы не встречное благородство князя Александра.
Местный тип… Это мое бескорыстное увлечение, «наука для себя».
Везде, где бы я ни оказывался, я стараюсь составить о нем представление – о его облике и характере, о его далеких предках, которые впервые пришли сюда, смешавшись с коренным финским племенем, позаимствовав у него названия рек, озер, оврагов, урочищ и дополнив их своими именами, протоптали дороги, наполнили окрестности своим говором и оставили в наследство потомкам отличительные родовые черты. Эти «типы» сохраняются еще в российской глубинке, не затронутой демографическими перемещениями последних столетий; но даже в райцентрах и более крупных городах среди попадающихся навстречу прохожих вдруг какое-то лицо привлекает внимание особой индивидуальностью, потом другое, третье, а через некоторое время замечаешь, что эти особенные лица чем-то сходны между собой… Это и есть местный «тип»: медлительный, надежный, положительный переславец с сильными надбровными дугами, коротким прямым носом и длинной подвижной верхней губой; или вздорный белоголовый ростовец с сужающимся книзу лицом, белесоватыми голубыми глазами и бестолковой речью; или бойкий, деловито-лукавый ярославец, явный пришелец с юга, сохранивший темные волосы, темные брови и темную опушку светлых глаз; или беспокойный, подозрительный, насмешливый курянин (потомок служилых москвичей) с крикливый матерной скороговоркой…
Но лучше всех – псковичи, простодушием, честностью, отсутствием всяческой фанаберии заслужившие свое пренебрежительное прозвище, приветливые, восприимчивые, отзывчивые, строители милостью божьей, умевшие так приспособить свои постройки к разнообразным потребностям жизни, что Ле Корбюзье с его «машиной для жилья» умолкнул бы от зависти, да еще несколькими штрихами, свободными и точными, придать им особенную изящную теплоту и так же легко, при случае, согласовать свой язык с чужим и на этом новом языке опять сказать нечто свое, неповторимое… И только многопролетные звонницы, похожие на отрезки неприступных крепостных стен, с живописной непринужденностью прикомпонованные к скромным псковским храмам, вдруг обнаруживают скрытую сущность псковичей, которые в одиночку в продолжение трех веков стойко сдерживали непрерывный, изо дня в день, натиск Литвы и Ливонского ордена, заслоняя западные рубежи нашей Родины.