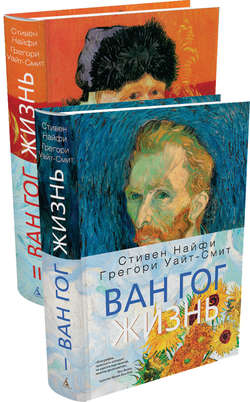Читать книгу Ван Гог. Жизнь. Том 1. Том 2 - Стивен Найфи - Страница 16
Том 1
Часть первая. Ранние годы
1853–1880
Глава 12
Черная страна
ОглавлениеО существовании места, куда поезд доставил Винсента, авторы тогдашних путеводителей по Голландии не ведали. Мальчику с девственных пустошей Зюндерта даже лунный пейзаж вряд ли показался бы более диковинным. Вдоль линии горизонта на плоской равнине возвышались громадные черные конусы, такие странные и в то же время одинаково безликие: слишком правильные, чтобы сойти за природное явление, слишком внушительные, чтобы сойти за творение рук человеческих. На некоторых из них начала прорастать трава; другие еще тлели изнутри и слегка дымились. «Казалось, здешний пейзаж пропитан черной пылью из-за непрерывной доставки угля на поверхность, сам воздух здесь приобрел цвет сажи – сажи, которая безостановочно извергается из высоких труб и оседает на землю, покрывая ее безжизненной липкой пленкой; вся местность производит впечатление нездоровой, насквозь продымленной, обреченной на гибель, деформированной наростами терриконов», – писал о Боринаже один приезжий.
Деревья были здесь редкостью: вся растительность, за исключением нескольких жалких садов, исчезла под натиском черной армии дымящихся угольных отвалов – терриконов. Даже летом цветение было чуждо этой земле – настолько, что и «от вида пыльных листьев чахлой герани на подоконнике сладко сжималось сердце». Зимой снег становился серым раньше, чем успевал долететь до земли. Когда весной он таял, серая почва чернела, дороги превращались в непролазную, липкую, как деготь, грязь, так что ноги увязали – того и гляди останешься без башмаков. Даже в безоблачные дни в воздухе, размывая границу между небом и землей, висела дымка из серого пара от курившихся терриконов и сажи из дымовых труб. По ночам все окутывала беззвездная, адская тьма. Жители называли это место le pays noir – черная страна.
Поселки, которые располагались примерно в миле друг от друга вдоль утопавших в грязи дорог, были застроены безликими домами из оштукатуренного кирпича. Здесь Винсент встретил настоящих боринажцев – черных людей черной страны. «Люди эти, когда они поднимаются из недр земли на дневной свет, – писал он Тео, – до такой степени черны, что похожи на трубочистов». Не только мужчины, но и все члены их семей были покрыты угольной пылью. И дети, и жены углекопов также работали на шахтах: дети – потому что могли протиснуться в узкие подземные ходы, жены – потому что без их заработка семью было не прокормить. После работы мужчины курили, сидя на пороге своих ветхих домов, пока женщины, по словам одного очевидца, черные, как негритянки, и дети «с лицами стариков» ходили за водой для ежедневного ритуала отмывания от сажи.
Мужчинам нечего было и мечтать отмыться добела. Их руки и грудь, испещренные царапинами и ссадинами, казались покрытыми татуировкой – «словно мрамор с синими прожилками». Да и сами усталые, согбенные тела этих людей (средняя продолжительность жизни в Боринаже составляла 45 лет), их изможденные, обветренные лица, их воспоминания о близких, которые не вернулись из шахты, – все это также было несмываемым отпечатком тяжелого труда горняков Боринажа. А еще осознание, что и их дети вслед за ними проведут жизнь под землей, ведь, как писал Эмиль Золя, «люди, к сожалению, не изобрели еще способа жить без еды». По словам одного из местных жителей, каждое утро, прощаясь с близкими, мужья, сыновья и дочери утирали слезы, «как будто знали, что больше никогда не увидятся».
Сбившись в «громадное, понурое человеческое стадо», они брели к шахтам. Зимой рабочие выходили из дому еще до первого проблеска зари и при свете ламп шли туда, где зловеще горели синим пламенем маяки доменных печей и стояли освещенные красным заревом коксовые печи. В этих угольных поселках над всем доминировала шахта. Горы шлака, громадные трубы и фантастические металлические леса позволяли за несколько миль увидеть шахту и почувствовать ее запах. Кроме того, ее можно было услышать. Оглушительный грохот от вращения громадного колеса, натужные вздохи паровой машины, звон и скрежет металла, непрерывный звон колокола, отмечавший подъем на поверхность каждой новой партии угля, – эти звуки разносились по округе во все концы, как и удушающий запах тлеющих отвалов. Окруженная кирпичными стенами – выглядящими точь-в-точь как военное укрепление – и рвом шлака, источающим тлетворный запах рудничного газа, шахта каждое утро заглатывала тысячи рабочих, пропадавших в ней, словно в пасти «чудовища, поглощающего свою обычную порцию человечины», – писал Золя в романе «Жерминаль», действие которого происходит на французской угольной шахте, по другую сторону границы.
Угольная шахта Маркас
Каким-то непостижимым образом Винсент сумел найти в себе силы энергично приступить к новой миссии. По словам встречавшего его священника, в Боринаж он прибыл «элегантно одетым», «воплощая все характерные черты голландской опрятности». Это довольно неожиданно, учитывая суровые условия, в которых он по собственной воле жил в Брюсселе. Чтобы избавить франкоговорящих жителей Боринажа от труда выговаривать его неудобоваримую голландскую фамилию, он представился просто как «мсье Винсент».
Вооруженный рекомендацией отца, приемлемым знанием французского и свежим зарядом энтузиазма, Винсент вскоре нашел себе должность в Пти-Вам, одном из маленьких поселений, жавшихся друг к другу в тени шахт Маркас и Фрамери. Небольшой местный приход только что обзавелся собственной церковью и по закону имел право нанять проповедника за государственный счет. В ожидании окончательного утверждения этой должности местный Евангелический комитет принял Винсента на шестимесячный испытательный срок в качестве «проповедника без духовного сана и учителя катехизиса». Винсенту было назначено небольшое жалованье и предоставлено жилье: сперва у разносчика книг в близлежащем Патураже, а спустя краткое время – в доме одного из самых зажиточных прихожан Жана Батиста Дени, фермера, жившего со своими пятью сыновьями в Пти-Вам.
Винсент немедленно начал вести уроки катехизиса для детей. Он читал им, пел с ними гимны и рассказывал библейские истории, а в качестве иллюстрации использовал нарисованные им самим карты Святой земли. По вечерам он участвовал в чтениях Библии, которые устраивались на дому у кого-нибудь из членов общины. Кроме того, Винсент посещал больных. «Здесь их такое множество», – писал он Тео. Первые письма домой были полны восторженных рассказов о его новой деятельности. «Он занимается тем, что ему действительно нравится, – писала Анна Корнелия, лелея очередную осторожную надежду. – Работа доставляет ему большое удовольствие». Его рассказы впечатлили даже недоверчивого Доруса. «Похоже, что он увлечен работой и она ему удается, – писал Дорус Тео в январе. – Мы очень за него рады».
Поскольку боринажская конгрегация Винсента лишь недавно отделилась от церковной общины в Ваме, прихожане собирались в старом танцевальном зале – «Детском салоне». Зал, где могло разместиться почти сто человек, был уже приспособлен для религиозных собраний – регион был буквально наводнен евангелическими миссиями. В мансардной комнате дома фермера Дени Винсент готовил проповеди для рабочих и фермеров, которые каждое воскресенье собирались в «Детском салоне». Он снова цитировал слова лионского проповедника. «Мы должны думать о Христе-труженике, – говорил Винсент своим прихожанам, – с морщинами печали, страдания и усталости на челе». Кто сможет лучше понять «рабочего, труженика, чья жизнь полна тягот и невзгод, как не сын плотника… который тридцать лет работал у отца в скромной мастерской, ибо на то была воля Божья»?
Для вдохновения Винсенту достаточно было выглянуть на улицу, где каждое утро мрачная процессия шахтеров – мужчин и женщин, одетых в одинаковые лохмотья, стуча башмаками в предрассветной мгле, – понуро шла отбывать трудовую повинность. По вечерам, четырнадцать часов спустя, они возвращались домой. «Точно так же, как это было вчера, и так же, как это будет завтра, как происходит из века в век, – писал один свидетель этого унылого шествия. – Словно самые настоящие рабы».
Стоит ли говорить, что Винсент, с его максимализмом, рано или поздно должен был присоединиться к серой колонне, направлявшейся в недра земли? Это был лишь вопрос времени.
«Мрачное место, – написал он после посещения шахты Маркас, одной из самых старых, страшных и опасных в округе. – Бедные шахтерские хижины, несколько черных от дыма мертвых деревьев, колючие изгороди, навозные кучи, зольные отвалы и горы бесполезного угля». Надшахтное здание, копер, окружал сюрреалистичный пейзаж шахтенного комплекса: крытый брезентом сарай для сортировки угля, подъемная машина, дренажная насосная башня, коксовые и доменные печи. В отдалении лошади медленно поднимались по склону черной горы, один за другим волоча наверх ящики с угольной крошкой и пустой породой. Возможно, Винсент побывал и в раздевалке, где большая угольная печь обдавала шахтеров жаром, прежде чем они отправлялись вниз.
Но чего Винсент никак не ожидал, так это безумной вибрации и оглушительного грохота, царивших в копре. Это просторное кирпичное сооружение с закопченными окнами непрерывно содрогалось от работы медного механизма – ритмичной пульсации выхлопов; гром тяжелых бочек по железному полу; вой черных тросов, тянущихся от огромного колеса к засаленным шкивам на железном каркасе, возвышающемся над всем, словно голый остов башни. Пронзительный визг лебедки означал прибытие и отправление клетей: они поднимались из глубины, груженные углем, и снова опускались в недра земли, унося рабочих на глубину в 635 метров, – «увлекая живой груз, который шахта легко поглощала, словно прожорливый великан», – писал Золя.
Шахтеры с лампами в руках, тесно скучившись, стояли босиком в пустых ящиках для угля, а мимо них, «словно рельсы из-под поезда, мчащегося на всех парах», пролетали деревянные сваи шахты. Воздух быстро становился ледяным, а в клеть проникала вода, сочившаяся со стен, – сперва тонкой струйкой, а затем целым потоком. Миновав три последних уровня, где выработка была уже закончена, шахтеры оказывались так глубоко под землей, что солнечный свет, едва видимый через жерло шахты, уменьшался до точки размером с далекую звезду в небе.
Из «зала», прорубленного на дне шахты, во все стороны расходились туннели и шурпы, пытавшиеся нащупать спрятанные в недрах угольные пласты – некоторые толщиной всего до полуметра. По мере того как Винсент с трудом пробирался по одному из темных ходов, в конце которого слышался шум отбойных молотков, укрепленный балками потолок становился ниже, дощатые стены – у́же: он сравнивал эти туннели с «большими дымовыми трубами на брабантских фермах». Постепенно лужицы на полу слились в озеро. Температура воздуха стремительно менялась: от стужи в лифтовой шахте, где вентиляция была наилучшей, до жаркой духоты в туннелях, где не было ни намека на дуновение. Под конец Винсенту приходилось идти согнувшись, по щиколотку в воде, в удушающей атмосфере подземелья.
Время от времени впереди слышался монотонный грохот, похожий на раскаты грома. Несколько мгновений спустя из темноты появлялась лошадь, тянувшая за собой состав вагонеток, полных угля. Чтобы пропустить лошадь с грузом, ему приходилось вжиматься в осклизлую, корявую стену. Шахтеры завидовали откормленным лошадям, которые всю свою жизнь жили под землей, в тепле, наслаждаясь «запахом свежей, чистой соломенной подстилки». Еще глубже, где не могли пройти лошади, вагонетки с углем толкали работавшие в шахте дети: при этом мальчишки в голос ругались почем зря, а девочки лишь сопели, «запаренные, как кобылы, изнемогая под непомерной тяжестью груза», – описывал их Золя.
Наконец Винсент добрался до забоя, где трудились шахтеры. Здесь туннель ветвился на множество кажущихся бесконечными невозможно узких лазов. В каждом из них в темноте трудился одинокий шахтер. Винсент называл эти норы французским словом de caches («укромные уголки, тайники»). Они напоминали ему камеры «подземной тюрьмы» или «ниши склепа». «В каждой такой камере, – рассказывал он Тео, – при тусклом свете маленькой лампы рубит уголь шахтер в грубом полотняном костюме, грязный и черный, как трубочист».
Поездка на шахту Маркас в январе 1879-го стала для Винсента самым важным событием за те два года, что он провел в Боринаже. Он спускался под землю как минимум еще один раз – в марте того же года. Но к этому времени Винсент уже стоял на пороге погружения куда более опасного – в самую черную из стран; повторно он провалится в эту бездну через десять лет, находясь в арльском госпитале для душевнобольных.
Падение было стремительным и внезапным. «Мы начинаем снова за него волноваться, – писал Дорус спустя всего несколько недель после того, как Винсент приступил к новой работе. – На горизонте замаячили неприятности». Жители Боринажа равнодушно отнеслись к новому проповеднику, а он в свою очередь не стремился наладить общение. Книжный образ благочестивых углекопов, которые, не впадая в уныние, ежедневно противостоят тьме и смерти, разлетелся на куски при столкновении с реальностью: его подопечные оказались людьми замкнутыми, отнюдь не спешившими впускать в свой круг чужака. «Простые и добродушные люди», какими жители Боринажа представлялись Винсенту по приезде, вскоре стали в его письмах Тео «малограмотными невежами» – «нервными», «обидчивыми» и «подозрительными».
Винсент с трудом справлялся со странным местным диалектом французского языка, на котором они говорили с невероятной скоростью. Он старался не отставать от них, насколько было возможно ускоряя темп своего парижского французского, но такая тактика лишь усугубляла взаимное непонимание. Винсент, казалось, с удивлением узнал, что большинство из них не умели читать. Вскоре он уже жаловался, что, «будучи культурным и воспитанным человеком», он не в состоянии найти себе товарищей в «столь диком окружении». Шахтеры тоже не желали признать в нем своего. Сперва они, хоть и нерегулярно, еще посещали проповеди, которые Винсент читал на французском, а затем и вовсе перестали приходить. Винсенту, по его собственному признанию, недоставало «характера и темперамента истинного шахтера»: он и сам чувствовал, что «никогда не сумеет поладить с ними или завоевать их доверие».
Как всегда, когда от реальности исходила угроза, Винсент все глубже погружался в иллюзии. Он упорно отстаивал «живописность» чахлого местного пейзажа и особое «очарование», присущее жителям Боринажа. Он сравнивал черные отвалы с песчаными дюнами Схевенингена. «Здесь чувствуешь себя как дома, – утверждал он, – как будто ты на родных пустошах». Даже путешествие в шахту не сломило его веры в то, что на служение в Боринаж его призвало то самое заветное оно. Продлившийся шесть часов визит в адские недра шахты Маркас он назвал «очень интересной экспедицией». Описание этой «экспедиции», составленное Винсентом для Тео, больше всего напоминает составленное натуралистом описание колонии жуков или птиц: изобилуя техническими терминами, оно не содержит ни слова возмущения или сочувствия. Признавая «скверную репутацию» шахты – «поскольку многие здесь гибнут во время подъема или спуска, из-за отравленного воздуха, взрыва метана, прорыва воды, обрушений и т. д.», – Винсент настаивал: все это лучше той жизни, которую они ведут в убогих поселениях на поверхности. Углекопы, по его мнению, предпочитали постоянную ночь своей работы «мертвой и бесприютной жизни» верхнего мира, точно так же как «на суше моряки скучают по морю, несмотря на все опасности и трудности, поджидающие их там».
Своим иллюзиям Винсент находил художественное выражение. Все – от безжизненного пейзажа до искалеченных шахтеров – вызывало в памяти любимые произведения искусства. Смертоносный туман создавал «фантастический эффект кьяроскуро», напоминавший о «картине Рембрандта, или Мишеля, или Рейсдала». Винсент был уверен, что Маттейс Марис смог бы написать изумительное полотно, изобразив на нем «изможденных, обветренных» шахтеров. А если бы кто-нибудь из художников сумел запечатлеть шахтеров за работой в их подземных норах, думал он, «это точно стало бы чем-то новым и ранее неслыханным».
Вместо того чтобы открыть глаза на окружавшее его реальное страдание, он рассуждал о страданиях любимых литературных героев. «В мире по-прежнему очень много рабства, – писал он о „Хижине дяди Тома“. – И эта восхитительная книга говорит о нем с великой мудростью, любовью и страстной заинтересованностью в лучшей доле несчастных угнетенных». Винсент не произнес ни одного слова осуждения в адрес нечеловеческих условий жизни и труда шахтеров Боринажа, которые даже в те, совсем не сентиментальные, времена ужасали общество, однако не скупился на похвалы роману «Тяжелые времена» Чарлза Диккенса, сумевшего создать «трогательный и полный сочувствия образ рабочего человека». В какой-то момент Винсент, кажется, почти признался в том, что больше доверяет литературным и живописным образам бедных и угнетенных, чем реальности за окном. «Картина Мауве, Мариса или Израэлса, – настаивал он, – говорит больше и яснее, чем сама природа».
Фантазии Винсента нашли выражение и в его проповедях. Он приехал в район, бурливший от рабочих волнений. Через тридцать лет после того, как в близлежащем Брюсселе Маркс и Энгельс написали «Манифест Коммунистической партии», шахтеры Боринажа возглавили социалистическое рабочее движение, которое в конце концов распространилось на всю континентальную Европу. Волны кровавых забастовок, следовавших одна за другой и жестоко подавляемых властями, привели к зарождению боевых профсоюзов, которые получили в рабочих поселках, вроде Пти-Вам, активную поддержку; постепенно возникла целая сеть профессиональных клубов, кооперативов и обществ взаимопомощи, призванных дать отпор жестокости и несправедливости нового капиталистического строя.
Но поскольку Винсенту шахтеры представлялись стойкими христианскими подвижниками, образ бесправной жертвы был им не к лицу. А посланные им испытания, как и его собственные мытарства, лишь приближали к Господу. Им нужен был не Карл Маркс, а Фома Кемпийский. Он звал их не к бунту, не к борьбе, а к прославлению страданий («нас огорчают, а мы радуемся»). «На то воля Божья, чтобы мы, подражая Христу, вели жизнь скромную, – проповедовал он. – Не к заоблачным вершинам надо, а к терпению и скромности следует стремиться, надо учиться у Евангелия кротости и сердечному смирению». Винсент прибыл к шахтерам с твердой уверенностью: «народ, ходящий во тьме», с готовностью примет весть Кемпийца о благом смирении, ибо полагал, что в этом и состоит утешение всех обездоленных и угнетенных. В эту категорию прекрасно вписываются и рабочие клячи, запряженные в телегу с золой.
Переубедить его не смогли ни забастовки, ни бойкоты, ни митинги, свидетелем которых ему довелось стать. «Божий сын в земном изгнаньи, очи возведи. Бог избавит от страданий – скоро, потерпи», – подчеркнул он в потрепанном сборнике духовных песен и рифмованных псалмов, положенных на музыку, который использовал в «Детском салоне». Но в бурлящем гневом шахтерском поселке, где за последние три года жалованье сократилось на треть, а люди сотнями гибли от взрывов, обвалов и эпидемий, увещевания Винсента только больше отдаляли его от «несчастных созданий», которых он жаждал утешить.
Из известных ему способов утешения страждущих оставался последний: Винсент принялся ухаживать за больными. Ежегодно сотни рабочих боринажских шахт получали ожоги и переломы, отравления газом или угольной пылью, заболевали из-за чудовищной антисанитарии. Больные и умирающие не ставили под сомнение воззрения Винсента и не отвергали его проповеди. Они были рады странному голландцу, который предлагал помощь тогда, когда другим не было до них дела. «Здесь много случаев заболевания брюшным тифом и смертельной лихорадкой, – рассказывал Винсент брату. – В одном доме все страдают от лихорадки, а помочь им некому, поэтому больные ходят за больными».
Винсент бросился в пучину страдания с жертвенным самозабвением. Он заходил в дома, где свирепствовал тиф, предлагая хозяевам помощь в работе по дому, и днями напролет дежурил у постелей больных. Он заботился о пострадавших в шахтах, в числе которых однажды оказался человек, обожженный с ног до головы. Винсент нарезал льняные лоскуты для компрессов с воском и оливковым маслом – последнее он иногда покупал на собственные деньги. Согласно свидетельству очевидца, он трудился день и ночь, ухаживая за недужными, молясь и проповедуя Евангелие, а когда пациенты выздоравливали, «падал на колени от усталости и радости».
Но и этого было недостаточно. Вскоре Винсента затянуло в привычный замкнутый круг самобичевания и самоуничижения. Он отказывал себе в любой пище, кроме хлеба без масла, жидкой рисовой каши и подслащенной воды. Он перестал заботиться о своем внешнем виде, мылся от случая к случаю и посреди зимы нередко выходил на улицу без пальто. Точно так же как раньше, в Амстердаме и Брюсселе, он считал, что ведет чересчур роскошную жизнь, и потому съехал от Дени в расположенную неподалеку маленькую заброшенную хижину с соломенной крышей. Он отказывался спать в удобной постели и неспроста осведомился у Дени, какое дерево самое твердое, вероятно намереваясь достать для своего лежака именно такую доску. Развесив на стенах хижины репродукции из своей коллекции, он с каждым днем все более уходил в себя. В светлое время суток Винсент ухаживал за больными и ранеными, а по вечерам читал, курил, штудировал Библию и подчеркивал любимые отрывки в сборнике духовных песен. Он так исхудал, что жена Дени начала опасаться, как бы он не заразился свирепствовавшим вокруг тифом.
Дени и остальные члены прихода считали хижину неприемлемым жильем для проповедника и возмущались «религиозным помешательством» Винсента. Он же в свою защиту цитировал, вслед за Фомой Кемпийским, Святое Евангелие: «Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову», однако его обвинителям сравнение казалось богохульством. Разочарованные его проповедями, шокированные эксцентричным переездом, упрямым нежеланием прислушиваться к советам и даже его маниакальной помощью больным, прихожане обратились в Брюссель, в Евангелический комитет, с просьбой прислать инспектора и рассмотреть вопрос о назначении нового проповедника, что уже прямо грозило Винсенту увольнением. Всего через месяц после начала новой жизни он вновь оказался перед лицом неизбежного провала.
Родителей эта новость не застигла врасплох. Письма сына с рассказами об ужасных увечьях, эпидемиях и вылазках на угольные шахты давно вызывали беспокойство Доруса и Анны. Дорус опасался, что, «чересчур увлекшись присмотром за больными и ранеными», Винсент не имеет возможности достойно выполнять возложенные на него религиозные обязанности. Анну больше тревожил внешний вид сына, ведь «там кругом такая грязь». Кроме того, они получили письмо от мадам Дени, которая подробно описала ту жалкую жизнь, на которую обрек себя Винсент. Он и сам подтвердил опасения матери, сообщив, что действительно обходится «без кровати, постельного белья и услуг прачки». От предъявленных ему обвинений он попросту отмахнулся – «это их не касается» – и в оправдание вновь ссылался на Евангелие и Кемпийца. «Иисус тоже хранил спокойствие во время бури, – писал он, – и поворачивал реки вспять».
Но Дорус не мог сложа руки ждать разрешения ситуации. Несмотря на непогоду, 26 февраля он отправился в Боринаж. К моменту его приезда инспектор комитета преподобный Рошедье уже прибыл и был осведомлен обо всех претензиях в адрес нового проповедника. Рошедье пришел к выводу, что Винсент продемонстрировал «досадный переизбыток миссионерского рвения», о чем и сообщил своенравному молодому проповеднику, прочтя ему строгое назидание. Однако этого, очевидно, оказалось недостаточно, чтобы Винсент съехал из своей лачуги: именно там – лежавшим на мешке с соломой, ужасающе слабым и истощенным – его и застал отец.
По воспоминаниям очевидца, Винсент «как ребенок позволил увести себя за руку», и на следующий день сквозь серую метель Дорус в качестве наказания повел сына каяться к трем местным священникам, от решения которых зависела его судьба. Вполне в духе упорного сеятеля, отец провел с сыном беседу «о планах по его исправлению – как ему измениться и окрепнуть духом». Он взял с Винсента обещание, что тот будет следить за своим внешним видом, подчиняться церковному начальству и использовать хижину только как мастерскую или рабочий кабинет.
Но Винсенту не удалось обмануть родных этой видимостью компромисса. «Он слишком упрям и своенравен, чтобы прислушаться к советам», – в отчаянии писала Анна. В письме к Тео Винсент приукрасил обстоятельства отцовского визита. «Отцу не просто будет позабыть Боринаж, – писал он на следующий день, – как и всякому, кто побывал в этом удивительном, замечательном и живописном месте». Вскоре после отъезда Доруса Винсент снова с презрением отказался от жилья в доме Дени. «Возможно, – запальчиво писал он родителям, – улучшению всегда предшествует ухудшение».
Беда пришла неожиданно. Вторжение людей с их кирками, масляными лампами и воздухом внешнего мира пробудило к жизни силы, запертые в недрах земли с незапамятных времен. С каждым ударом кирки, с отколотым куском каменной толщи, с каждой отгрузкой угля газ без цвета и запаха все больше заполнял шахту. Достаточно было одной искры – от лампы или трения колес вагонетки о рельсы, чтобы газ взорвался. Это и произошло 17 апреля 1879 г. на шахте Аграп, чуть более чем в трех километрах от Вама.
Вспышка синего метанового пламени запустила цепную реакцию. Мощная взрывная волна разбросала рабочих по всей длине туннеля и втиснула их в трещины угольного забоя. Бывалые шахтеры знали, что при утечке рудничного газа – «гремучего», как они его называли, – нужно падать на пол, потому как дальше на уровне головы промчится поток пламени. Взвихренная страшным сквозняком угольная пыль, подожженная метановой вспышкой, превратила струю пламени в адский огонь, несущийся по шахте со скоростью пули в ружейном стволе. На сей раз взрывная волна обрушила конструкции шахты, искорежила рельсы и, словно снаряды, разбросала по туннелям пустые вагонетки. Огонь летел по подземным ходам со скоростью тысячи километров в час, сметая все на своем пути: оборудование, лошадей, людей – и детей, и взрослых.
Пролетев по стволу шахты, огненный ветер, словно залп гигантской пушки, ворвался в надшахтное здание. Рабочие на подъемнике сгорели в один миг. Затем мощный поток еще не воспламенившегося газа, заполнив вентиляционную шахту, взорвался, вырвавшись наружу громадным огненным шаром. Молодые девушки, работавшие в сарае для просеивания угля, были обожжены до неузнаваемости. Копер снова и снова сотрясали взрывы, взметавшие в воздух сотни тонн угля и камней. После одного из таких взрывов воздух заполнили обрывки одежды погибших шахтеров.
Громадный огненный столб, видимый на расстоянии нескольких миль, и густые облака черного дыма оповестили жителей окрестностей о катастрофе. Толпы женщин и детей выбежали на дорогу и бросились в направлении расползавшегося по небу черного пятна. Подходя к шахте, они отчетливо слышали ужасающие хлопки подземных взрывов и ощущали под ногами дрожь земли, не прекращавшуюся еще несколько часов. Вскоре люди заполнили все свободное пространство и затаив дыхание с надеждой вглядывались в распухшие черные лица выживших. Носилки за носилками отправляли либо в госпиталь, либо в церковь. По мере того как гора тел во дворе росла и масштаб трагедии становился все более очевидным, горестные стенания все чаще перемежались гневными криками и проклятиями. (Катастрофа унесла жизни 121 шахтера.) В конце концов полиция была вынуждена закрыть ворота, чтобы горе и возмущение толпы не спровоцировали бунт.
Невозможно представить, чтобы Винсент Ван Гог остался в стороне от этих событий и не воспользовался такой возможностью дарить утешение страждущим. Люди, собравшиеся во дворе шахты Аграп, не расходились еще несколько дней. Безутешно рыдали дети, оставшиеся без отцов, и матери, потерявшие детей; другие в муках неизвестности ждали новостей о пропавших без вести членах семьи (последних выживших подняли на поверхность только на пятый день). Ходили слухи, что почти сто шахтеров попали в западню из-за обрушения пород. Спасатели слышали стоны и крики раненых. В каждой шахтерской семье прекрасно знали о том, насколько опасна газовая смесь, образующаяся после взрыва рудничного газа, – она остается в шахте и может привести к смерти от удушья в считаные минуты. Чтобы не потерять сознание от отравления газом, замурованные шахтеры пели. Винсент наверняка был тронут образом оказавшихся в ловушке шахтеров, в шаге от близкой смерти распевающих в кромешной мгле гимн надежды.
Затем начались похороны. Десятки похоронных процессий – отчасти символ траура, отчасти протеста – тянулись через траурный пейзаж, словно мрачные образы с детства памятной Винсенту гравюры «Похоронная процессия, идущая через поле». Скорбь, охватившую жителей Боринажа, разделяла вся Бельгия. Самая страшная за последние десять лет авария на шахте спровоцировала волну рабочих протестов и побудила давно бездействующее правительство потребовать от владельцев шахт улучшения техники безопасности. Трагедию обсуждали и в Эттене. «Какой ужас этот несчастный случай, – писал Дорус Тео. – В каком отчаянном положении оказались люди – погребенные заживо, практически без шансов на спасение». Не закрывал Дорус глаза и на то, какими последствиями все это чревато для его впечатлительного и непредсказуемого сына: «Надеюсь, у Винсента не возникнет новых осложнений. Несмотря на все его странности, он действительно искренне заинтересован в судьбе несчастных людей. И Господь, несомненно, заметит это. Ах, вот бы все наладилось!»
Но ничего не наладилось. Как уже говорилось, после отъезда отца из Боринажа Винсент вновь взялся за старое. Охваченный «безумием самопожертвования», он роздал почти всю свою одежду, те немногие деньги, которые у него были, и даже серебряные часы, которыми он уже не в первый раз пытался кого-то облагодетельствовать. Свое нижнее белье он порвал на повязки для раненых. В марте Винсент вернул отцу деньги, присланные для оплаты жилья, ясно дав понять, что вновь обосновался в хижине. В ответ на призывы Рошедье умерить пыл Винсент упрямо следовал своим средневековым представлениям о благочестии, отказываясь от еды, тепла и постели. Зимой он выходил на улицу босым и носил шахтерскую одежду. Он перестал мыться – мыло тоже казалось ему греховной роскошью. Все больше времени он проводил с больными и ранеными, провозгласив себя готовым на любые жертвы ради облегчения их страданий.
После апрельского взрыва на шахте Дорус и Анна некоторое время лелеяли надежду, что Винсент в качестве духовного наставника сможет быть полезным своей общине. Однако все произошло наоборот: катастрофа на шахте Аграп лишь приблизила очередную катастрофу в жизни Винсента.
В июле Евангелический комитет вынес решение о его увольнении. Официальным поводом, согласно докладу комитета, стала его неспособность к деятельности проповедника. «Каждый, кто поставлен во главе конгрегации, должен обладать талантом произносить речи, – говорилось в документе. – Отсутствие данного качества делает абсолютно невозможным выполнение основной задачи проповедника». Но родители Винсента – а возможно, и он сам – отлично знали настоящую причину. «Он не подчиняется требованиям комитета, – писал Дорус. – Он неисправим. Это суровое испытание».
Комитет дал Винсенту три месяца, чтобы подыскать другую должность, но о том, чтобы до тех пор продолжать выполнять свои обязанности в Ваме, не могло быть и речи. Постоянные предупреждения и выговоры руководства, а заодно и его собственное все более эксцентричное поведение настроили против него всю паству. При встрече прихожане открыто насмехались над его странными манерами. Во время столь любимых им уроков катехизиса дети совершенно его не слушались. Повторяя, скорее всего, услышанное дома, они называли Винсента «fou» – сумасшедшим. Возможно, именно тогда Винсент впервые услышал в свой адрес эту характеристику.
Путь домой также был для него закрыт: перспектива еще одного досрочного возвращения после очередной неудачи переполняла его чувством вины и стыда. «Мы зовем его вернуться домой, – писал Дорус, – но он не желает».
В отчаянной попытке спасти свою бельгийскую миссию Винсент отправился на поиски Абрахама Питерсзена, проповедника, который помог отцу устроить его в евангелическую школу в Брюсселе. Во время своего обучения там он несколько раз прислуживал в церкви Питерсзена в Мехелене. 1 августа, нарядившись в шахтерское рубище, Винсент отправился в долгое путешествие, какие часто совершал в трудные периоды своей жизни. Проспав две ночи под открытым небом и сбив ноги в кровь, Винсент оказался в Брюсселе, у порога дома, где жил Питерсзен. При виде «неопрятного и страшного» человека отворившая дверь девочка взвизгнула и убежала. Питерсзен попытался убедить Винсента вернуться в родительский дом, но тот решительно отказался. «Он был непреклонен, – рассказывал Питерсзен Дорусу. – Его худший враг – он сам».
Не сумев переубедить Винсента, Питерсзен неохотно дал ему рекомендательное письмо к боринажскому проповеднику, известному как «евангелист Франк». Он жил в Кеме, шахтерском городке, расположенном всего в четырех милях от Вама. Будучи «независимым проповедником», Франк не имел ни церкви, ни паствы, ни возможности платить Винсенту жалованье. По сути, это был просто одинокий человек, живущий в глуши и проповедующий Слово Божие всякому, кто захочет слушать. Винсент мог бы стать «помощником» Франка. Такое решение знаменовало позорный конец его великих амбиций. На следующий день Винсент вернулся в черную страну и доложил о своем прибытии «евангелисту Франку», адрес которого значился просто как «au Marais» – на болоте.
Оставался лишь один человек, которого Винсент мог попросить о помощи. Сразу после прибытия в Кем он набросал Тео короткое письмо, в котором умолял его приехать.
Чем больше Винсент уходил в свои фантазии и погружался в отчаяние, тем сильнее он скучал по своему брату. «Я сделан не из камня или железа, как насос или фонарный столб, – писал он. – Как и всем людям, мне нужны дружеские и участливые отношения, нужен близкий товарищ. Я не могу жить без этого и не чувствовать пустоты внутри». В том же письме он сравнивал себя с узником в одиночном заключении, а Тео называл своим попутчиком – «compagnon de voyage» – и единственной «причиной жить». Только братская любовь давала ему ощущение, что его жизнь, «возможно, еще на что-то годна, – говорил он, – и не совсем уж бесполезна и никчемна».
Но одного желания Винсента было недостаточно, чтобы заполнить растущую между братьями пропасть. Они не виделись с прошлого ноября, когда младший брат с триумфом возвратился из Парижа, а старший почти в то же самое время совершил свой отчаянный побег из Брюсселя. Впервые за шесть лет они не встретились на Рождество – Винсент остался в Пти-Вам. Их переписка стала нерегулярной, а редкие письма настолько формальными, что ни намеком не упоминали о проблемах Винсента. Если не считать настойчивых приглашений в Боринаж. Тем не менее Винсент продолжал изображать себя посланником таинственной преображающей силы, а черную страну описывал как «своеобразный» и «живописный» край с особым, только ему присущим чувством и характером.
Но Тео была известна вся подноготная. Родители не скрывали от него опасений, что выходки Винсента грозят семье новым разочарованием и позором. К тому времени, как его брат был смещен с должности проповедника прихода Пти-Вам, сочувствие Тео было практически на исходе. «Винсент сделал свой выбор», – холодно написал он.
Когда в начале августа Тео прибыл на вокзал в Монсе, он был готов сказать брату слова горькой правды, которые, опасаясь непредсказуемой реакции сына, оставил при себе их отец. Братья совершили долгую прогулку, во время которой младший пенял старшему, что тот слишком долго катился по наклонной плоскости, убеждал его, что настало время исправить допущенные ошибки, что пришла пора прекратить жить за счет отца и начать самостоятельно себя обеспечивать. Тео предположил, что брат мог бы снова найти себе должность бухгалтера, вроде той, какую он занимал в Дордрехте, или пойти в ученики к плотнику. Он мог бы быть цирюльником или библиотекарем. Сестра Анна думала, что из Винсента вышел бы хороший пекарь. А если он желает вернуться в мир искусства, он запросто мог бы «заняться литографированием заголовков счетов или визитных карточек». Какой бы путь он ни выбрал, настаивал Тео, его бесцельным блужданиям, его ничтожному праздному существованию необходимо положить конец.
Когда Винсент заикнулся (вторя Фоме Кемпийскому) о богоугодной бедности и самопожертвовании, Тео сердито отмахнулся от этих «не имеющих ничего общего с реальной жизнью религиозных понятий и идиотских принципов», которые только мешали брату «здраво смотреть на вещи». Тогда Винсент попытался напомнить об их братской клятве, произнесенной восемь лет назад на берегу Рейсвейкского канала, но Тео резко ответил: «С тех пор ты переменился, ты уже не тот». В конце концов, явно выражая мнение родителей, Тео выдвинул главное обвинение: Винсент сам причина «разлада, унижения и горя для них двоих и для всей семьи».
Кажется, слова брата поразили Винсента: он мог уклониться и отбиться от любых других ударов (что и сделал сразу после отъезда Тео, написав ему письмо, в котором изобретательно и ловко парировал брошенные ему упреки, снисходительно иронизировал, принимал позу оскорбленного в лучших чувствах и пытался переманить брата на свою сторону), но вся его жалость к себе, все умение находить себе оправдание не могли избавить его от чувства вины за то, что он причиняет горе родителям. «Очень может быть, – признал он в порыве искренности, – что это моя собственная ошибка».
Винсент знал только один способ потушить охватившее его пламя вины. Поэтому, отправив брату письмо с опровержением, он пошел в Монс и купил билет на ближайший поезд в сторону дома. Более года Винсент упорно избегал встречи, но теперь желание увидеть родных пересилило стыд.
«Он возник как из-под земли, – писала Анна Корнелия Тео. – Мы услышали „привет Па, привет Ма“ и увидели, что он стоит на пороге». Они переодели и накормили его, но и только: домашние встретили Винсента скептическими взглядами и осуждающим молчанием. «Он очень похудел, – писала Анна, – на лице его было странное выражение». Все это мало напоминало радушную встречу блудного сына, о которой всегда так мечтал Винсент. Уязвленные поведением сына, которое стало причиной краха стольких планов на будущее и принесло столько разочарования, родители держались отстраненно. Но Винсент принял их настороженность за безразличие и поспешил замкнуться в мрачном одиночестве, которое неизбежно должно было воскресить в памяти всех членов семьи не самые радужные воспоминания о его поведении в детстве. «Он целыми днями читает Диккенса, – рассказывала Анна, – и больше ничего не делает. Он ничего не говорит, только отвечает на наши вопросы… Хотя и ответы его иногда бывают весьма странными… Он ни о чем не говорит ни слова; ничего по поводу своей прошлой работы, ничего по поводу будущей».
Настроенный прервать молчание сына, Дорус пригласил Винсента прогуляться до Принсенхаге и навестить дядю Сента. «Может быть, тогда Винсент откроется нам», – выражала надежду Анна. Но результатом прогулки длиной в пять миль стала очередная катастрофа. Чувство отеческого долга, по велению которого Дорус затеял этот разговор, изрядно поистрепалось за годы обид и разочарований. «Завтра исполняется десять лет с того дня, как Винсент покинул наш дом и я отвез его в Гаагу, чтобы он поступил на работу к Гупилю, – писал Дорус Тео всего за неделю до неожиданного появления Винсента. – Мы устали и пали духом». Винсент тоже чувствовал обиду: он убедил себя в том, что, уступая требованиям отца, вынужден предать свои религиозные устремления. Почти одновременно с письмом отца, в котором тот жаловался на неуступчивость старшего сына, Тео получил письмо, в котором сам Винсент горестно сетовал: «Ты знаешь, как долго мы обсуждали и планировали, спорили и рассматривали варианты, вдумчиво все проговаривали, – и каким ничтожным оказывался результат… Боюсь, такой же результат ожидает меня и теперь, если я последую совету, пусть даже и данному с самыми лучшими намерениями».
Когда один из них не смог сдержать раздражения – неизвестно, был ли то Дорус или Винсент, – этой вспышки оказалось достаточно, чтобы за ней последовал взрыв: блудный сын снова бежал из родительского дома.
Дальше последовал год полного неведения. Винсент ничего не писал брату, а если и писал, свидетельств тому не осталось – практически вся семейная переписка за тот год утрачена.
Гонимый то ли словами отца, то ли ненавистью к себе, Винсент вернулся в черную страну. Он переступил порог своего самого страшного кошмара. Накануне поездки в Эттен Винсент писал Тео:
Если я когда-нибудь всерьез приду к мысли, что был обузой и помехой для тебя и остальных домашних, то лучше бы мне было вовсе не появляться на свет… Если я начну думать об этом, то не смогу справиться с тоской и отчаянием, и мне останется только мечтать о том, что я не задержусь в этом мире надолго.
Следующие полгода Винсент с такой неистовостью предавался самоотречению, что условия его жизни устрашали даже видавших виды жителей Боринажа. Он отверг «комфорт» (весьма относительный) дома «евангелиста Франка», на долгое время лишил себя пищи, крова, тепла, гигиены, отдыха и общения. Краткие часы сна он проводил в каком-нибудь случайном хлеву или вовсе под открытым небом. Единственной его пищей были черствые хлебные корки и мерзлый картофель.
Франк оказался бесполезен для Винсента и как работодатель, и как утешитель (больше Винсент никогда не упоминал о нем). Надеяться, что какая-нибудь церковь в Кеме согласится предоставить ему работу – хоть оплачиваемую, хоть нет, – было бессмысленно: репутация «проповедника из Вама» следовала за ним по пятам. Судя по всему, Дорус продолжал присылать Винсенту небольшие суммы денег, но тот все раздавал бедным, или тратил, покупая для них томики Библии, или просто отправлял обратно. Когда он в поисках слушателей для своих проповедей отправлялся в шахту, рабочие издевались над ним. Его странное поведение казалось им возмутительным и неприличным. Винсент избегал людей – люди избегали его. Один из жителей поселка слышал, как он бормочет: «Все считают меня никчемным».
Воображение Винсента тоже окутала тьма. Он отложил в сторону не только перо, которым писал письма, но и карандаш, которым делал зарисовки. Он даже лишил себя удовольствия любоваться коллекцией репродукций – для них все равно не было места в его нынешнем бесприютном бродячем существовании. Его воображаемая жизнь теперь вся заключалась в маленьких карманных книжках, которые он, вероятно, носил с собой повсюду. Но и они, казалось, были нужны ему лишь для того, чтобы бередить старые раны. «Тяжелые времена» Диккенса, «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу – все неизменно напоминало ему о худших днях прошлого. Годом раньше Винсент прочитал фундаментальную «Историю Французской революции» Мишле. Теперь он обратился к «Последнему дню приговоренного к смерти» Гюго – мрачной истории о несправедливости и неразборчивости смерти во времена террора. «Все люди приговорены к смерти, – заключал Гюго, – с отсрочкой на неопределенное время». Еще более мрачный образ Винсент обнаружил в «Орестее» Эсхила, повествующей об ужасной судьбе победителей Троянской войны. Мир, описанный в этой самой жестокой из греческих трагедий, сплошь состоит из семейных преступлений: отец приносит в жертву дочь, муж умирает от руки жены, сын убивает мать и бежит из дома, преследуемый фуриями раскаяния.
И наконец, Винсент отважился погрузиться в беспросветные глубины шекспировского «Короля Лира». «Господи, как прекрасен Шекспир! – восклицал он в первом после долгого молчания письме. – Есть ли на свете другой столь же таинственный автор?»
Читателя вроде Винсента, в духе времени питавшего слабость к историям об искуплении страданий и торжестве любви, «Король Лир» удручал своей безысходностью. Смерть Корделии в особенности оскорбляла мировоззрение Викторианской эпохи, и поэтому в постановках пьесы шокирующий финал часто заменяли счастливым концом. Должно быть, Винсент находил какое-то странное утешение в трагедии отца, безмерным горем оплатившего собственные ошибки, в страданиях того, кто с полным правом мог сказать: «Я не так перед другими грешен, как другие – передо мной». Винсент выражал особое восхищение образом Кента, «благородного и выдающегося» графа в обличье слуги, наказанного за честность и прямоту. Но с приближением зимы Винсент начинает отождествлять себя с другим самоотверженным персонажем пьесы – оклеветанным старшим сыном Глостера Эдгаром. Изгнанный Лиром, не узнанный своим ослепленным отцом, он живет в шалаше, притворяясь сумасшедшим, в ужасе бежит от невидимых мучителей, «гложет падаль и запивает болотной плесенью». «Бездомные, нагие горемыки… В лохмотьях, с непокрытой головой и тощим брюхом»…
Согласно свидетельствам очевидцев, в ту зиму Винсент, с грязным лицом, босой и одетый в лохмотья, не обращая внимания на метели и грозы, блуждал по продуваемым всеми ветрами окрестностям. Бывшие знакомые, в числе которых был Дени, предупреждали его: «Ты повредился рассудком». Да и по собственному заключению Винсента, крестьянам, встречавшимся на его пути, он должен был казаться сумасшедшим. «Господь Иисус тоже был сумасшедшим», – отвечал Винсент, окончательно убеждая тех, кто слышал это, в своем безумии. Он беспрестанно потирал руки, словно пытаясь избавиться от несмываемого пятна. Проходя мимо сарая, где он спал, соседи часто слышали рыдания. Рассказывали, что Винсент «доходил до крайней степени неприличия», срывая с себя одежду, и, подобно Эдгару, «подставлял свое нагое тело под удары непогоды». «Неприкрашенный человек – и есть именно это бедное, голое двуногое животное, и больше ничего». Однажды Винсент пережил собственный момент лировской жалости: увидев рабочего, соорудившего рубашку из мешка, на котором было по трафарету выведено: «Осторожно! Хрупкий багаж!» – «он не посмеялся, – рассказывал один из местных жителей, – но еще несколько дней с сочувствием вспоминал об этом». В своем сборнике религиозных песен Винсент подчеркнул следующие строки:
Моя душа скорбит смертельно.
Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?
Далеки от спасения моего слова вопля моего.
Я вопию днем, – и Ты не внемлешь мне, ночью, —
и нет мне успокоения. Сила моя иссохла, как черепок;
И Ты свел меня к персти смертной.
Мысли о самоубийстве непрерывно преследовали Винсента в эти месяцы беспощадного самобичевания. С того июльского дня, когда на вокзале он смотрел вслед уходящей матери, им владела меланхолия. «Казалось, что мы прощаемся навсегда», – писал он ей. Лишь месяц спустя, когда Евангелический комитет официально оформил его неудачу в Пти-Вам, еще более жалобно он писал брату Тео: «Моя жизнь шаг за шагом утрачивает свою ценность и значение и становится безразличной мне самому».
Если Винсент и не предпринимал осознанных попыток свести счеты с жизнью, он еще до конца зимы отправился в путешествие, которое легко могло бы привести к тому же исходу. Примерно в начале марта, изнуренный голодом, слабый и не по погоде одетый, Винсент покинул Боринаж и отправился на запад. Часть пути он проделал на поезде: несколько оставшихся у него франков позволили ему добраться до границы с Францией. Дальше он шел пешком. Возможно, целью этого путешествия был Кале – город на северо-западе в ста пятидесяти километрах от границы с Бельгией, где от дорогой его сердцу Англии Винсента отделял бы только Ла-Манш. Чуть ранее он в отчаянии написал преподобному Слейд-Джонсу в Айлворт – единственное место, где его деятельность не окончилась провалом. Слейд-Джонс явил редкий энтузиазм, предложив построить в Боринаже «несколько маленьких деревянных церквей». Этот обманчивый лучик надежды, казалось, оставался для Винсента единственным шансом воплотить в жизнь мечту проповедовать Евангелие.
Эта ли или какая-то другая путеводная звезда заставила Винсента покинуть черную страну, но тяготы путешествия превзошли даже его недюжинную способность терпеть лишения. Измученный ледяным дождем и пронизывающим ветром, не имея денег купить еду или оплатить кров, Винсент, «как бездомный, брел и брел целую вечность, не находя нигде ни отдыха, ни пищи, ни укрытия», – вспоминал он позднее. Он спал в брошенных повозках, поленницах и стогах сена и просыпался, покрытый коркой инея. Он искал работу: «Я готов был согласиться на что угодно», – но никто не хотел нанимать странного бродягу. «Я был в чужой стране, без друзей и какой-либо помощи, – рассказывал он, – страдая от множества невзгод». Прежде чем повернуть обратно, Винсент дошел до Ланса, преодолев в общей сложности около шестидесяти километров. На обратном пути он ненадолго остановился в Курьере, неподалеку от Ланса, где находилась студия Жюля Бретона. Его живопись и поэзия давно были любимы Винсентом. Во времена работы в «Гупиль и K°» ему даже доводилось встречаться с художником. Но все это было в прошлой жизни. Теперь он только постоял на улице перед дверью мастерской, слишком раздавленный, чтобы осмелиться постучать.
Через три дня, сломленный телом и духом, он вернулся в Боринаж. «Это путешествие, – признавался он позднее, – чуть не стоило мне жизни».
В таком состоянии, неделю или две спустя, он оказался в Эттене. Возможно, он доковылял туда пешком (после своего неудачно окончившегося путешествия Винсент жаловался, что хромает), но, вероятнее всего, Дорус, предупрежденный кем-то из местных, отправился в Боринаж и забрал сына – он и прежде неоднократно грозил так поступить. Бесконечные тревоги за судьбу Винсента, ответственность за него, которая тяжким крестом долгие годы лежала на плечах родителей, сделали свое дело: в конце концов Дорус решил взять все в свои руки.
Он решил отправить сына в лечебницу для душевнобольных.
Городок Гел расположен примерно в шестидесяти километрах к югу от Эттена, сразу за бельгийской границей. С XIV в. пилигримы прибывали сюда в надежде обрести исцеление от душевных болезней, которые в то время приписывались проискам дьявола. Пилигримы останавливались в домах местных жителей, иногда задерживаясь на долгие годы и неизбежно играя определенную роль в жизни местной общины. К 1879 г., за несколько столетий подобного паломничества, городок превратился в одну большую психиатрическую лечебницу под открытым небом – «город простаков». За исключением небольшой клиники, там не было ни камер, ни палат, ни стен. Тысяча «помешанных» – как их всех без разбору называли – жили в окружении десятка тысяч людей в здравом уме. Они платили домовладельцам за постой, выполняли работу по дому. «Их причуды воспринимаются здесь как нечто само собой разумеющееся, их странностей никто не замечает», – гласил один из рекламных проспектов, который вполне мог попасться на глаза Дорусу.
Во времена, когда в государственных лечебницах пациентов сплошь и рядом сажали на цепь, а зеваки могли, заплатив деньги, вволю над ними поиздеваться, условия жизни в Геле делали непростое для Доруса решение чуть менее мучительным. Расположенный сравнительно близко от дома, городок был в то же время надежно укрыт от посторонних глаз. Как и любая семья Викторианской эпохи, семья пастора Ван Гога не представляла себе более страшного позора, чем несмываемое клеймо безумия. Несмотря на значительные достижения науки в понимании и лечении душевных болезней, сути дела это не меняло. Абсолютно все: шансы Тео сделать карьеру в фирме «Гупиль и K°», вероятность удачного замужества двух младших дочерей и даже положение Доруса, который иначе сгорал бы от стыда, читая проповеди перед своими прихожанами, – все зависело от того, удастся ли семье сохранить трагедию старшего сына в тайне.
Но для начала Дорусу было необходимо получить у медицинского эксперта «заключение о невменяемости», которое выдавалось на основании осмотра пациента. Через некоторое время после того, как в марте Винсент прибыл домой, Дорус устроил сыну встречу с профессором Йоханнесом Николасом Рамаером, известным гаагским психиатром и инспектором лечебниц для душевнобольных. Поначалу Винсент согласился посетить Рамаера, чтобы «попросить его выписать лекарство». Но в последний момент, возможно прослышав о намерениях отца, он отказался ехать к доктору. «Я сопротивлялся как только мог», – позднее вспоминал Винсент.
Единственным способом обойтись без заключения – о чем Винсент вполне мог знать – было единогласное решение conseil de famille, «семейного совета». Дорусу претила идея действовать таким образом. И все же он был настроен решительно.
«Отец собрал вместе всю семью, чтобы запереть меня в клетку как сумасшедшего», – спустя годы расскажет Винсент Гогену. Для того чтобы оформить опеку над сыном, которому только что исполнилось двадцать семь, Дорус должен был добиться признания его физически нетрудоспособным, то есть неспособным самому о себе позаботиться. Отец называл Винсента безумцем, опасным человеком и желание сына жить жизнью бедняка, следуя заветам Фомы Кемпийского, считал лишним доказательством его умопомешательства.
Той весной в приступе ярости Винсент вновь уехал из Эттена. Он сказал родителям, «что больше не желает их знать», и демонстративно вернулся туда, где пережил столько злоключений, – в Боринаж. Возможно, он бежал от угрозы заточения или просто назло требованию отца оставаться дома, поскольку был убежден, что Дорус хочет убрать его с глаз долой и уберечь семью от последнего позора. После прибытия в Кем Винсент отправил родителям экземпляр «Последнего дня приговоренного к смерти», нанеся тем самым точно рассчитанный удар. «Гюго на стороне преступников, – ужасалась его мать. – Что стало бы с миром, если бы все дурное считалось хорошим? Ради Бога, это недопустимо!»
Но вскоре ярость Винсента сменилась отчаянием. Все его затеи провалились. Прихожане отвергли его; их Бог от него отвернулся. Родные отреклись от него задолго до того, как он сам от них отрекся. Попытка услать его в Гел лишила Винсента последней надежды на примирение – надежды, которая предыдущие три года поддерживала его в пору испытаний и одиночества. Лишившийся дома, денег, друзей, утративший веру, Винсент после долгого падения достиг дна. Чувство вины и отвращения к себе переполняли его. «Сам того не желая, для семьи я стал… невыносимым и подозрительным типом… недостойным доверия… Человек праздный, как птица». Он жаловался, что «страшное уныние пожирает его психическую энергию» и внутри «поднимается волна отвращения, которая готова захлестнуть тебя». «Как я могу быть кому-то полезен? – с горечью спрашивал он. – Самым лучшим и самым разумным решением для меня всегда было просто исчезнуть… перестать существовать».
Из глубин этой самой черной из стран, проведя в молчании без малого год, Винсент вновь взывал к своему «дорогому Тео». «Я молчал так долго, – писал он в июле. – А теперь я оказался в безвыходном положении, я в беде, что еще мне остается?» Это было самое длинное из писем, которые когда-либо написал Винсент. В нем – возмущение и протест, жалость к себе, признания и мольба о помощи.
Он стойко защищал причудливые эксцессы своего поведения в прошлом, заявляя: «Я человек страстей». Если он казался ни на что не годным бездельником, то потому только, что «руки были связаны». Если он казался злым, то потому лишь, что «обезумел от боли», – как плененная птица, что «бьется головой о прутья своей клетки». И все же в этом потоке многословной оборонительной казуистики слышен подлинный крик души. «Бывает, что человек не знает, на что способен, – писал Винсент, по обыкновению используя для самых болезненных признаний третье лицо, – но инстинктивно чувствует, что все же мог бы в чем-то преуспеть! Я чувствую, что мое существование не бессмысленно!.. Для чего тогда я могу быть полезен, как я могу послужить? Есть внутри меня что-то, но что это?»
Тео внял мольбе брата. А из следующего письма Винсента он узнал, что тот уже нашел ответ на свой вопрос. «Я занят – рисую, – через месяц сообщил Винсент в краткой записке, – и сейчас мне не терпится вернуться к этому занятию».