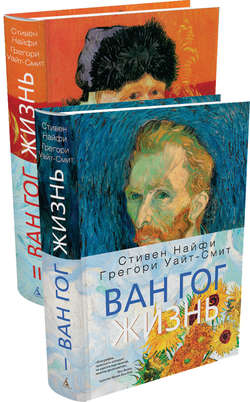Читать книгу Ван Гог. Жизнь. Том 1. Том 2 - Стивен Найфи - Страница 19
Том 1
Часть вторая. Голландский период
1880–1886
Глава 14
Ледяные сердца
ОглавлениеСловно фантазм древних империй, вознесся над Брюсселем новый Дворец правосудия. Даже по меркам эпохи, известной своим самолюбованием, брюссельский дворец являл собой образец зашкаливающей помпезности. «Немного Микеланджело, немного Пиранези и немного безумия» – так описывал это «вавилонское» сооружение поэт Поль Верлен. В 1880 г., когда Винсент прибыл в Брюссель, Дворец правосудия был почти достроен.
Разумеется, это здание – самая масштабная из возведенных в XIX в. отдельно стоящих построек – и не могло быть иным: Брюсселю нужен был символ. Молодое Бельгийское государство, только что отпраздновавшее пятидесятилетнюю годовщину независимости и расширившее свои владения за счет африканских колоний, хотело навсегда оставить в прошлом многовековое господство Франции и Голландии и превратить свою древнюю столицу в современный город, престижностью и великолепием бросающий вызов самому Парижу. Перемены, которые по велению короля Леопольда II происходили в Брюсселе, сопоставимы с градостроительными преобразованиями французской столицы под руководством барона Османа: целые районы средневекового города сравнивались с землей, чтобы освободить место для новых просторных бульваров, застроенных буржуазными апартаментами и великолепными дворцами коммерции, власти и искусства. За чертой Старого города был разбит огромный парк, не уступавший парижскому Булонскому лесу, и обустроено громадное ярмарочное пространство – в 1880 г. здесь прошло празднование полувекового юбилея независимости страны, размахом напоминавшее парижскую Всемирную выставку.
Но время, проведенное в тени Парижа, дало Брюсселю и ряд преимуществ. В поисках убежища от политических волнений в тихий франкоговорящий город во множестве прибывали представители артистической и интеллектуальной элиты. Здесь Карл Маркс и другие основоположники социализма безнаказанно могли писать и публиковать свои сочинения. Именно здесь анархист Пьер Жозеф Прудон («Собственность есть воровство!») скрывался от тюремного заключения. Как наверняка было известно Винсенту, здесь началось двадцатилетнее изгнание Виктора Гюго – самые продуктивные годы его чрезвычайно насыщенной жизни. Здесь символист Шарль Бодлер укрылся от преследования за «непристойность» своей поэзии. Сюда же Верлен привез свою запретную любовь – Артюра Рембо – и создал стихи, которые вошли в сборник «Романсы без слов» («Romances sans paroles»). К тому времени, как сюда приехал Винсент, Брюссель заслуженно пользовался славой города, где отверженные у себя на родине люди неординарных взглядов получали шанс поспорить с судьбой.
Именно сюда, в город воскресших надежд и вторых шансов, Винсент привез и свое собственное отчаянное желание начать новую жизнь. Из писем исчезли любые упоминания о неудачах прошлого. Только название гостиницы при кафе, где он остановился, – «Друзья Шарлеруа» – невольно вызывало в памяти черное время, проведенное им в черной стране (Шарлеруа был столицей угледобывающего региона). В маленькой комнате над кафе (бульвар Миди, дом номер 72, напротив вокзала) возобновилась лихорадочная работа. «Я рвусь вперед с удвоенной силой», – по прибытии уверял Винсент брата. «Мы должны напрягать все силы – как обреченные, как отчаявшиеся».
Питаясь хлебом и кофе, которые в счет оплаты пансиона можно было круглосуточно получать в кафе внизу, Винсент корпел над последней частью курса Барга, посвященной копированию знаменитых графических портретов работы Рафаэля и Гольбейна. Одновременно он снова прошел курс более простых упражнений углем и сделал новые копии репродукций с любимых картин Милле, осваивая рисунок пером. Но результаты повергали его в отчаяние: «Это не так просто, как кажется».
Помимо этого, Винсент усердно перерисовывал крупноформатные иллюстрации большой книги по анатомии – гримасничающие головы и конечности с оголенными мускулами, – пока не усвоил таким образом, как изображать «все человеческое тело» – спереди, сзади и сбоку. Кроме того, чтобы изучить анатомию животных, он раздобыл литературу по ветеринарии, откуда перерисовывал изображения лошадей, коров и овец. На некоторое время он даже заинтересовался псевдонауками – физиогномикой и френологией, поскольку был убежден, что художник обязан знать, «как характер находит отражение в чертах лица и форме черепа».
Винсент старательно живописал свои титанические усилия родителям и Тео, которые не слишком верили в его способность достичь мастерства в изображении фигуры. «[Если] я буду делать успехи в рисунке, – уверял он родителей, – все остальное раньше или позже тоже пойдет на лад». Винсент отправлял домой образчики («пусть убедятся в том, что я работаю»). Он не упускал случая напомнить родным, как сложна стоящая перед ним задача, и пообещать непременно добиться успеха. «В целом, могу сказать, я достиг некоторого прогресса, – писал он 1 января 1881 г. – Мне кажется, теперь дело пойдет быстрее».
Винсент справил себе новую одежду и башмаки. «Одежда, которую я купил, хорошо сшита и сидит на мне лучше, чем все, что я носил прежде», – гордо сообщал он. Похваляясь своим вновь обретенным чувством стиля, он даже вложил в одно из писем родителям образец ткани («Эта материя здесь пользуется спросом, в особенности среди художников»). Винсент посчитал нужным сообщить родителям и другие обнадеживающие новости: он купил три пары новых кальсон и регулярно, не реже двух-трех раз в неделю, посещает общественную баню.
В ответ на всегдашнее беспокойство родителей по поводу его замкнутого образа жизни Винсент возобновил поиски «приличной компании». Практически сразу же после приезда в Брюссель он сообщил, что свел знакомство с «несколькими молодыми людьми, также начавшими курс рисования». Винсент донимал Тео, который год проработал в Брюсселе, просьбами помочь ему освоиться в местном обществе. Один из первых визитов Винсент нанес в дом номер 58 по улице Монтань де ла Кур, где в тени внушительного здания Королевских музеев изящных искусств – нового брюссельского чуда – расположилась галерея «Гупиль и K°». Винсент надеялся, что прежний начальник Тео, управляющий Шмидт, сумеет помочь ему «познакомиться с кем-то из местных молодых художников». Винсент неукоснительно следовал полученным от Тео инструкциям. Он представился Виллему Рулофсу, главе брюссельского сообщества голландских художников-эмигрантов, и, вероятно, встречался с Виктором Орта, молодым бельгийским архитектором, только что возвратившимся из Парижа для поступления в Брюссельскую академию. Возможно, Тео также устроил брату встречу с другим голландским художником, постоянно живущим в Брюсселе, Адрианом Яном Мадиолом. Винсент с радостью рассказывал родителям о своих выходах в свет и обещал возобновить отношения с любимцами семьи – Терстехом, Шмидтом и, в конце концов, с дядей Сентом.
Больше всего родители радовались дружбе сына с Антоном Герардом Александром Риддером ван Раппардом (Винсент называл его просто Раппард), которому суждено будет сыграть заметную роль в жизни художника. Как почти все брюссельские знакомые Винсента, Раппард прежде познакомился с его братом: некоторое время назад в Париже молодой голландец занимался в мастерской знаменитого салонного художника Жана Леона Жерома, зятя Адольфа Гупиля. Как и прочие друзья Тео, Раппард являл собой живое воплощение того, что, по мнению Анны Карбентус, означало «приличное общество». Младший сын состоятельного утрехтского адвоката из хорошей семьи, Раппард посещал достойные буржуазные учебные заведения, общался исключительно с достойными людьми и достойно проводил лето на озере в Лосдрехте или на модном курорте, вроде Баден-Бадена.
Когда однажды утром в конце октября 1880 г. Винсент постучал в двери комфортабельной студии ван Раппарда, удобно расположенной в северной части Брюсселя, на улице Траверсьер, его встретил приветливый, хорошо одетый молодой человек двадцати двух лет – на год моложе Тео. Но и помимо разницы в благосостоянии и социальном положении, эти два молодых художника едва ли могли быть более разными. Многие годы всеобщего обожания сделали Раппарда флегматичным, добродушным и дружелюбным. Член многочисленных клубов, завсегдатай светских приемов, он двигался с отточенным изяществом и был окружен друзьями, которые любили его за рассудительность и твердость. Винсент же, агрессивный, вспыльчивый и неуступчивый, являлся весьма непростым собеседником: вспышки гнева, которым он был подвержен, могли свести на нет любой разговор. За долгие годы, проведенные в одиночестве, Винсент почти полностью утратил навык поведения в приличном обществе, и в его глазах любое взаимодействие с внешним миром имело лишь два варианта развития: либо оскорбит он, либо оскорбят его.
Не только манеры Раппарда, но и его ум казались безупречно отполированными: он не был ни особенно любознателен, ни оригинален. Газеты он, по собственному признанию, читал «по диагонали», судил обо всем по верхам, предпочитая выражать общепринятые взгляды своего класса. Трудно было представить человека более непохожего на Винсента, с его пытливым, бунтарским складом ума и неукротимым стремлением во всем дойти до самой сути.
Годы спустя вспоминая их первую встречу, Раппард признался, что тогда Винсент произвел на него впечатление человека «несдержанного» и «фанатичного». Винсент будет называть Раппарда «элегантным» и «поверхностным» (те же обвинения придется выслушивать и Тео). Раппард жаловался, что «поладить с Винсентом было непросто». Винсент называл Раппарда «отвратительно высокомерным». И тем не менее уже при первой встрече Винсент твердо решил завоевать дружбу молодого соотечественника, которая означала для него начало новой жизни. «Не знаю, тот ли это человек, с которым кто-то вроде меня сможет жить и работать бок о бок, – не без жеманства рассуждал Винсент в письме брату, – но мы определенно должны встретиться снова».
Антон Риддер ван Раппард
В течение следующих месяцев Винсент водил своего нового друга – первого со времен Гарри Глэдвелла – на долгие прогулки по сельским окрестностям Брюсселя; Винсент стал частым гостем в просторной, прекрасно освещенной студии Раппарда. Вместе они исследовали удовольствия квартала Мароль – местного района красных фонарей, где Винсент, судя по всему, покончил с умерщвлением плоти. Не сразу, но достаточно быстро Раппард проникся симпатией к странному новому товарищу. Ван Раппард по натуре был робок – по этой причине он когда-то отказался от мечты пойти во флот и не закончил ни одной из четырех художественных школ, в которых учился; по этой же причине он с радостью позволил энергичному и склонному к тирании Винсенту направлять свои поступки и мысли. Вечно колеблющийся, вечно недовольный собой Раппард сдался на милость Винсенту: он безропотно пережидал его вспышки гнева, иногда избегал его, но никогда ему не перечил.
Вероятно желая порадовать родителей, чья вера в пользу образования была непоколебима, Винсент подал документы в Королевскую академию изящных искусств. Изначально эту идею высказал управляющий Шмидт, но тогда Винсент, только что прибывший в Брюссель, отнесся к ней без энтузиазма, – по его словам, он мог бы, ничего не теряя, пропустить первый год академического обучения, поскольку самостоятельно прошел весь курс Барга. После стольких неудачных попыток его, несомненно, пугала перспектива вновь оказаться в роли ученика. Что ему действительно пошло бы на пользу, так это возможность поработать в мастерской какого-нибудь опытного художника, считал Винсент. Но рекомендации Рулофса и, несомненно, соблазн учиться вместе с Раппардом, который являлся студентом Академии, в итоге заставили его изменить решение.
Он подал заявку на курс «Рисунок с антиков» (посвященный рисованию гипсовых слепков античных статуй) и утешал себя тем, что благодаря этому хотя бы получит «отапливаемую и освещенную комнату», где сможет работать в зимнюю брюссельскую непогоду. Учеба в Академии была бесплатной, но принимали туда не всех. С нетерпением ожидая решения по своей заявке, Винсент нашел «бедного художника», которому платил полтора франка за два часа, чтобы тот учил его построению перспективы. «Я не могу продолжать, не имея хоть какого-нибудь руководства», – говорил он. Даже этой малости оказалось достаточно, чтобы обрадованные родители моментально согласились оплачивать его занятия.
Лейтмотивом возрождения Винсента в 1881 г. звучала тема денег. Из всех прошлых обвинений в его адрес ни одно не угнетало его более, чем упрек в неспособности самому заработать себе на жизнь. Именно это обвинение едва не вынудило его отца объявить сына душевнобольным. Боль и унижение, которые пережил тогда Винсент, полностью вытеснили из его мыслей Фому Кемпийского. С момента прибытия в Брюссель Винсент во всеуслышание заявлял, как мечтает поскорее начать зарабатывать себе на жизнь. «Моя цель, по крайней мере на ближайшее время, – как можно быстрее научиться делать привлекательные, пригодные для продажи рисунки, – решительно заявлял он в первом же письме из Брюсселя. – Тогда я наконец смогу зарабатывать своим трудом». По прибытии Винсент сразу отправился в местное отделение «Гупиль и K°», знаменуя символическое возвращение в лоно семейного арт-бизнеса. «Я снова вернулся в сферу искусства», – провозгласил Винсент. Он поделился с Тео надеждой, что, если будет усердно трудиться, «дядя Винсент или дядя Кор сделают что-нибудь, чтобы поддержать если не меня самого, то нашего отца».
Всю зиму Винсент уверял родителей, что непременно заработает денег на новом поприще, ведь хорошие рисовальщики всегда востребованы и всегда в цене. Винсент рассказывал родителям, какие внушительные гонорары (от 10 до 15 франков в день – «столько или даже больше») получают рисовальщики в Париже и Лондоне. В письмах к Тео он оправдывал каждую свою трату необходимым вложением во имя этой главной цели. Рисунки пером – «хорошая школа, если в будущем возникнет желание освоить офорты». Уроки перспективы и анатомии животных должны помочь «усовершенствовать технику и начать получать заказы». Словно пытаясь доказать искренность своего намерения вернуться в буржуазное общество, Винсент в письмах родным усвоил деловой тон, рассуждая преимущественно о хорошей прибыли, которую надеется получить от вложений в материалы, о том капитале, который создается его занятиями, и о высоких процентах, которые этот капитал впоследствии принесет.
Однажды он даже набрался смелости для «коммерческого предложения». С портфолио в руках он отправился к бывшему товарищу по евангелической школе Йозефу Криспелсу, который с тех пор успел начать военную карьеру. Явившись к нему в форт, Винсент решительно двинулся на плац, где в то время как раз проходили учения, и попросил о встрече с прежним товарищем. Винсент показал Криспелсу немногие свои законченные рисунки – изображения шахтеров, которых он продолжал рисовать и перерисовывать после отъезда из Боринажа. Если Криспелс высказал ему то, что думал, едва ли его реакция была приятна Винсенту. «Какие-то застывшие маленькие фигурки – такие странные!» – вспоминал Криспелс.
Но Винсент был так же невосприимчив к скептицизму, как и не способен на полумеры. Вскоре его стремление как можно скорее вновь обрести статус буржуа привело к новым крайностям. Мечтая быстро достичь уровня других молодых художников, таких как Раппард (которому было известно о позднем старте приятеля), Винсент стал тратить денег больше, чем позволяли финансовые возможности его родителей. Дорус решил посылать сыну 60 франков в месяц, но одна лишь плата за проживание в «Друзьях Шарлеруа» составляла 50 франков. Несмотря на постоянные уверения в своей бережливости – «Не думай, что я здесь шикую», – Винсенту не удавалось экономить. Буквально за несколько месяцев, проведенных в Брюсселе, он купил четыре костюма (один был сшит из велютина – «материала, который можно носить где угодно»). Он пополнил свою коллекцию десятком гравюр с картин Милле, которые могли ему пригодиться, если однажды он и сам решит заняться ксилографией. Он с невероятной скоростью расходовал материалы для рисования – за одно занятие до десяти листов дорогой бумаги. В оправдание он придумал аргумент, которым будет пользоваться всю оставшуюся жизнь: «Чем больше я расходую, тем быстрее продвигаюсь вперед и тем я ближе к успеху».
Бо́льшую часть его скромного бюджета поглощала оплата моделей. В Боринаже жители поселка не обращали на него внимания, благодаря чему Винсент имел возможность беспрепятственно делать зарисовки, и в Брюсселе он жаждал продолжать работать с натуры. Другие студенты ждали целый год, а иногда и дольше, прежде чем перейти к наброскам с натуры; Винсент не окончил еще даже курса «Упражнений углем», когда пригласил первую модель к себе в тесную комнатку в «Друзьях Шарлеруа». «Модели приходят ко мне почти каждый день, – радостно сообщал он спустя всего лишь несколько месяцев после того, как начал называть себя художником, – старый разносчик, какой-нибудь рабочий или мальчик». По его указанию они принимали разнообразные позы, сидели, ходили, копали, носили фонарь. Ругая их за неуклюжесть, Винсент делал один набросок за другим. Но Брюссель не Боринаж: моделям нужно было платить. «Модели – удовольствие недешевое», – жаловался Винсент, уверяя родителей в необходимости нанимать все новых и новых натурщиков, чтобы «работать намного лучше».
Кроме того, натурщиков нужно было одевать. В феврале, когда его родители уже начали негодовать по поводу стремительного роста расходов, Винсент заявил, что собирает коллекцию одежды, «в которую модели будут переодеваться для позирования». Он составил длинный список необходимых ему костюмов: одежда рабочих и шахтеров, деревянные башмаки, брабантские чепцы, зюйдвестки рыбаков и несколько женских платьев. Предчувствуя возражения родителей против новых трат, он написал, что «рисовать модель, одетую в правильный костюм, – единственно верный путь к успеху». Кроме того, он сообщил родителям, что его скудно освещенная тесная комната (на оплату которой в том месяце ему не хватило денег) больше его не устраивает: она не годится для работы с моделями. «Я смогу добиться своего, – писал Винсент, – только когда у меня будет что-то вроде постоянной студии».
Родителям становилось все труднее удовлетворять растущие аппетиты сына. Шестьдесят франков, которые Дорус ежемесячно присылал Винсенту, составляли больше трети его пасторского заработка. Когда они попытались обсудить сложившуюся ситуацию с Винсентом, он возмущенно отверг все упреки в расточительстве и многозначительно напомнил о противоположных крайностях – лишениях, которым подвергал себя в Боринаже. И снова на Тео посыпались жалобные письма из Эттена: «Мы охвачены тоской, поскольку переживаем из-за Винсента».
Но на сей раз Тео был в состоянии положить конец родительским страданиям. Недавно получив повышение, он стал зарабатывать достаточно, чтобы пообещать родителям: теперь он будет поддерживать брата. «С твоей стороны так великодушно начать помогать нам с расходами на Винсента, – писал Дорус. – Уверяю тебя, для нас это невероятное облегчение». Но тогда едва ли кто-то мог себе представить все последствия данного Тео обещания.
Причиной щедрости Тео было скорее чувство долга, чем особая братская привязанность. Несмотря на решительное вмешательство в жизнь Винсента прошлым летом, а возможно, как раз из-за этого, отношения Тео с братом стали более чем сдержанными. Внезапный переезд Винсента в Брюссель, несомненно, раздражал привыкшего все планировать Тео, а поспешный визит брата к управляющему «Гупиль и K°» Шмидту породил страх нового семейного позора. Тео незамедлительно написал брату, настоятельно порекомендовав ему избегать появляться в галерее (сославшись на некий неразрешенный правовой спор), и старательно игнорировал призывы Винсента убедить Шмидта помочь ему начать новую карьеру. В последние месяцы 1880 г. братья не написали друг другу ни одного письма; не стало исключением и Рождество – второе Рождество подряд, когда их пути так и не пересеклись.
В январе Винсент отправил брату обиженное новогоднее поздравление: «Раз я так долго не получал от тебя писем… и не получил никакого ответа на мое последнее письмо, думаю, будет уместным попросить тебя подать хоть какой-нибудь признак жизни». Называя молчание Тео «странным и необъяснимым», Винсент иронизировал над его возможными причинами: «Неужели ты боишься, что наше общение скомпрометирует тебя в глазах господ из „Гупиль и K°“?.. Или ты боишься, что я буду просить денег?» Предприняв неловкую попытку пошутить («Ты мог бы подождать с молчанием до тех пор, пока я попытаюсь выжать из тебя что-нибудь»), Винсент попытался загладить свои промахи («Я написал последнее письмо в минуту сплина, давай забудем об этом»). Но этот оборонительный обиженный, враждебный тон, который все следующие десять лет будет звучать в письмах Винсента, стал привычным еще за несколько месяцев до первого из присланных братом франков или гульденов.
В конце марта эстафетная палочка попечителя официально перешла в руки Тео. Дорус прибыл в Брюссель, чтобы сообщить Винсенту новости. Тем временем Тео изложил основные условия своей благотворительности. Как когда-то в Монсе, он вновь призвал брата найти работу и подчеркнул, что до тех пор Винсенту придется жить по его, Тео, правилам. Он убеждал Винсента воспринимать финансовые трудности как возможность, а не как помеху. Для того чтобы сократить расходы на натурщиков, Тео предложил прислать брату подержанный манекен с подвижными конечностями. Он снова пригласил Винсента присоединиться к нему в Париже, благодаря чему они могли бы сэкономить на совместном проживании. Другим аргументом в пользу переезда была возможность работать под руководством Ханса Хейердала, недавно дебютировавшего в Салоне молодого норвежского художника. «Это именно то, что мне нужно», – признавался Винсент, который долгое время твердил о своем желании обзавестись наставником.
Но в отношении просьб Винсента об увеличении денежного содержания Тео был непреклонен, игнорируя уверения брата, что прожить менее чем на сотню франков в месяц – невыполнимая задача. Тем временем несоответствие новых буржуазных запросов Винсента его материальному положению становилось все более очевидным. Друзья, вроде ван Раппарда, мнением которого он очень дорожил, начали интересоваться «странным и необъяснимым фактом»: почему Винсент, несмотря на известную фамилию и богатых родственников, столь стеснен в средствах? Это недоумение, по его словам, грозило перечеркнуть его титанические усилия оставить прошлое позади. В обществе заподозрят, «что со мной что-то не так… и не захотят иметь со мной дела», – сетовал он. Все это так мучило Винсента, что в конце концов он вынужден был скрепя сердце начать искать работу. В надежде попрактиковаться в рисовании и заодно научиться литографии он попытался предложить свои услуги типографиям. Но, как он сам вспоминал позднее, «повсюду его ожидал отказ». «Мне говорили, что мест нет, объясняя это низкой деловой активностью». В итоге Винсент сумел-таки найти работу: один кузнец нанял его рисовать эскизы печей.
Надежды Винсента начать новую жизнь стремительно рушились. Попытка получить образование в Брюссельской академии провалилась, и, по-видимому, с таким треском, что больше он ни разу в жизни о ней не упоминал и не сохранил ни одного рисунка, сделанного в тот период. Его либо не приняли, либо он вылетел вскоре после начала занятий. Очевидно, Винсент не сумел подружиться ни с кем из почти тысячи студентов Академии; один из них будет вспоминать впоследствии, что избегал Винсента, потому что тот «вечно нарывался на ссору».
Странное поведение Винсента и положение персоны нон грата в «Гупиль и K°» грозили вот-вот превратиться в «тему для сплетен в мастерских», что, в свою очередь, разжигало его паранойю. Холодность окружающих, например голландского художника Рулофса, Винсент объяснял тем ложным положением, в котором он оказался по вине родителей и брата Тео. Якобы окружающие заведомо подозревали его в дурных намерениях и злодеяниях, которые ему самому и в голову не приходили; якобы те, кто наблюдал за его работой, считали его сумасшедшим и смеялись над ним. В свою защиту Винсент мог сказать лишь одно: «Немногим дано понять, почему художник делает то, что делает».
Нежелание семьи, в особенности дядей, прийти ему на помощь с каждым новым оскорблением терзало его все сильнее. Почему всемогущий дядя Сент не хочет хоть немного облегчить племяннику путь? Почему процветающий дядя Кор, который так часто поддерживал других рисовальщиков, не может помочь ему? Разве не естественно было бы в сложившихся обстоятельствах принять участие в собственном племяннике? Да, он поругался с дядей Кором три года назад, когда бросил учебу в Амстердаме. «Но ведь это еще не повод навсегда оставаться моим врагом?» – восклицал Винсент. Он подумывал написать влиятельным родственникам, но боялся, что письма останутся нераспечатанными. Подумывал навестить их, но опасался, что не встретит радушного приема. Когда в марте приехал отец, Винсент умолял его выступить в роли посредника: заставить родственников «взглянуть на него по-новому».
В какой-то момент Винсент набрался смелости написать Терстеху. Несколько месяцев подряд он лелеял надежду летом съездить в Гаагу и наладить отношения с бывшим начальником, возобновить общение с успешным кузеном-художником Антоном Мауве, а может быть, и «пообщаться с другими художниками». Но Терстех ответил решительным отказом, выразив, по-видимому, общее мнение семьи. Он обвинил Винсента в намерении «злоупотребить щедростью его дядей», не имея на то никаких прав. Относительно приезда Винсента в Гаагу Терстех высказался не менее категорично: «Решительно нет, ты лишился всех своих прав». Что же до художественных стремлений Винсента, то тут Терстех с лицемерным участием посоветовал Винсенту не тратить попусту время, а лучше «преподавать английский и французский». «В одном он был абсолютно уверен, – с горечью вспоминал Винсент. – Я никакой не художник».
В конце концов Винсент решил отправиться туда, куда обычно приводили все его начинания: домой. Несомненно, дополнительным стимулом было для него и то, что Раппард тоже планировал уехать домой на лето. К тому времени Винсент работал почти исключительно в студии Раппарда на улице Траверсьер, и после отъезда друга из Брюсселя ему не имело смысла оставаться в городе. Кроме того, Раппард был для Винсента образцом художника-джентльмена, которым он и сам стремился стать, поэтому, если Раппард мог провести лето, катаясь на лодке и делая натурные зарисовки в окружении членов семьи, почему бы Винсенту было не поступить так же? Некоторое время он думал отправиться на какой-нибудь модный летний курорт (он называл это «за город») и снять там жилье на пару с каким-нибудь другим художником. Но, кроме Раппарда, никто не желал составить ему компанию, а ехать одному было слишком накладно. «Дешевле всего было бы, пожалуй, – писал Винсент, – провести лето в Эттене».
Сеятель. Копия с репродукции картины Милле. Перо, чернила. Апрель 1881. 48,1 × 37,7 см
В сущности, такой исход был предопределен. Пережив в одиночестве непростую зиму в Брюсселе, Винсент страстно стремился назад, в лоно семьи. Накануне возвращения домой он написал Тео: «Нам необходимо восстановить добрые отношения». Винсент был полон решимости изгладить из памяти родных «страдания и позор своего прошлого» в черной стране. Он втайне надеялся, что, сумев занять свое прежнее место в Эттене, сможет наладить и отношения с дядьями.
Но возвращение домой оказалось непростым. Он не был в Эттене с прошлой зимы, когда отец пытался отправить его в лечебницу для душевнобольных в Геле. То лето Винсент провел в Боринаже, считая, что родители не захотят его видеть дома. Впрочем, он и теперь попросил Тео замолвить за него словечко перед отцом, успокоить родителей. «Я готов уступить в вопросах одежды, – писал он, – да и в любых других, лишь бы угодить им».
Изначально Винсент собирался остаться в Брюсселе до отъезда Раппарда, запланированного на май, но желание скорей оказаться дома гнало его в путь. Как только Винсент узнал, что Тео намерен провести в Эттене Пасху (которая выпадала в тот год на 17 апреля), он немедленно сел на поезд и двинулся на север. (Он уехал в такой спешке, что после праздника ему пришлось вернуться, чтобы забрать оставшиеся в Брюсселе вещи.) Как обычно, в голове Винсента реальность тесно переплеталась с художественными образами – теперь уже и с теми, что создавал он сам. По дороге в Эттен Винсент вновь увлекся образом сеятеля. Немедленно после прибытия он сделал еще одну копию этого созданного Милле символа новой жизни, трактуемого Дорусом как воплощение настойчивости перед лицом неудачи. Как будто пытаясь продемонстрировать новые умения и доказать свою преданность делу, под настороженными взглядами родителей он без устали трудился над этой знакомой фигурой, тысячами крохотных штрихов пера имитируя линии офорта.
Едва успев насладиться долгожданным возвращением домой, Винсент с новыми силами погрузился в воплощение замысла, благодаря которому возвращение стало возможным. Когда позволяла погода – а это случалось нечасто в ту дождливую эттенскую весну, – Винсент отправлялся бродить по лесам и пустошам в поисках места, где можно разложить свой складной стул. Он был одет, как и подобало молодому художнику, проводившему лето в сельской местности, – просторную блузу с жестким воротником и стильную фетровую шляпу. Когда было холодно, он надевал пальто.
С собой он носил стул, папку с бумагой и деревянный планшет – твердая доска была ему необходима, чтобы не рвать бумагу энергичными ударами плотницкого карандаша, которым Винсент орудовал, словно ножом. Он рисовал деревья и кусты, фермерские дома и хозяйственные постройки, мельницы и луга, дороги и церковные дворы. Он рисовал животных, которым задавали корм, лежащие без дела сельскохозяйственные орудия – плуги, бороны, тачки. В плохую погоду, а иногда даже и в хорошую он оставался дома и с остервенением вновь и вновь копировал Милле или трудился над упражнениями из курса Барга. По свидетельству очевидца, Винсент работал «с невероятным усердием». «Я надеюсь сделать столько упражнений, сколько возможно», – обещал он Тео. Спустя годы эттенская горничная родителей вспоминала, как, бывало, Винсент просиживал за рисованием всю ночь и «иногда мать, спускаясь вниз утром, заставала его по-прежнему за работой».
Но для того, чтобы достичь желаемой независимости, более всего прочего, по мнению Винсента, он нуждался в возможности практиковаться в рисовании человеческой фигуры с натуры. «Любой, кто освоил мастерство рисовать фигуру, – писал он, – сумеет заработать себе на жизнь». Научившись изображать людей, Винсент мог бы делать рисунки вроде тех, что так часто мелькали на страницах иллюстрированных журналов. Картины живописной сельской жизни, признанными мастерами которых были Милле и Бретон, пользовались особой популярностью у широкой публики – для буржуазии они были воплощением мифа, дарующего утешение, которое прежде давала только религия. Все усилия Винсента, методично рисовавшего пейзажи, интерьеры, фермерские дворы и сельскохозяйственные инструменты, без устали копировавшего Милле и корпевшего над «Упражнениями» Барга, – все было направлено на достижение этой заветной цели. «Я должен неустанно рисовать землекопов, сеятелей, мужчин и женщин за плугом, – объяснял он Тео, – детально изучать и изображать все, что составляет сельскую жизнь».
Всецело поглощенный этой задачей, Винсент бродил вокруг Эттена в поисках моделей. Поначалу, как и в Боринаже, он делал наброски с работающих в поле крестьян и бесцеремонно напрашивался в фермерские дома, чтобы рисовать женщин, занятых домашними делами. Но поскольку у Винсента не было достаточного опыта быстрых зарисовок, ему приходилось просить крестьян постоять неподвижно. Иногда они соглашались и покорно застывали на месте, позируя художнику прямо в поле – с лопатой или плугом. Иногда ему удавалось уговорить их прийти в пасторский дом: в одной из служебных построек, где благодаря большому арочному окну было хорошее освещение, он устроил себе импровизированную студию. Модели позировали ему стоя, сгорбившись, согнувшись или на коленях; как правило, Винсент рисовал людей сбоку, чтобы избежать трудностей перспективного рисунка. Он выдавал им реквизит: грабли, метлу, лопату, пастуший посох, мешок сеятеля. Подчас, желая добиться более четкого контура и уточнить пропорции, он просил натурщика повторить позу, зафиксированную им в наброске, сделанном в поле. Нередко одна и та же модель выступала в разных образах. Винсент по-прежнему использовал большие листы бумаги, которые требовались для упражнений из учебных пособий Барга, и расходовал их с прежней неистовой скоростью.
Нанимая натурщиков, Винсент не только обещал заплатить за услуги, но и пытался заразить их своим неуемным энтузиазмом. «Он буквально заставлял людей позировать, – вспоминал один из местных жителей. – Они побаивались его». Скоро местные жители, едва завидев вдалеке эксцентричного пасторского сына, высматривающего новую жертву, стали избегать встречи с ним. «Общаться с ним было неприятно», – вспоминал один из местных. В своей «студии» Винсент доводил натурщиков до изнеможения, не щадя их, как не щадил он и самого себя. Снова и снова он рисовал одни и те же позы, ругая неопытных натурщиков за нетерпение. Он «мог работать над рисунком часами, – вспоминал один из позировавших, – пока ему не удавалось ухватить нужное выражение». В свою очередь Винсент жаловался, что устал «объяснять людям, как надо позировать». Он называл своих натурщиков «безнадежно упрямыми ослами» и насмехался над их деревенскими замашками – они норовили позировать в накрахмаленной выходной одежде, в которой «колени, локти, лопатки и все остальные части тела теряют свои характерные очертания».
Некоторое время казалось, что мир может сдаться под его бешеным натиском. Этот визит в Эттен стал полной противоположностью предыдущему: на сей раз атмосфера в самом деле казалась ему домашней, а родственники – семьей. В Эттене семья пастора Ван Гога занимала большой квадратный дом, за внушительным фасадом которого скрывались скромные, но просторные и удобные комнаты, благодаря множеству окон полные свежего весеннего воздуха. На заднем дворе, между домом и оплетенной диким виноградом стеной, был разбит уютный сад с розовыми кустами. Возле стены стояла деревянная беседка, к середине лета вся покрытая цветущей зеленью. Здесь семья часто отдыхала по вечерам, подкрепляясь бутербродами. Когда шел дождь, все собирались за круглым столом в гостиной, освещенной свисавшей с потолка масляной лампой.
В то лето Винсент вновь встретился с братьями и сестрами: на каникулы приехал Кор, который учился в школе в Бреде; из Сустерберга приехала сестра Лис; вернулась из Англии Вил, которой теперь было девятнадцать, – она позировала Винсенту для одного из первых его портретов. («Она отлично позирует», – с похвалой отозвался он.) Скучая по обществу Тео, Винсент нашел ему замену в лице двух местных юношей – Яна и Виллема Камов, сыновей пастора соседнего Леура. Художники-любители, братья Кам сопровождали Винсента на этюды и наблюдали за его работой в студии. «Он хотел, чтобы его рисунки были выполнены предельно тщательно и приносили доход», – вспоминал Виллем спустя годы. «Он говорил о Марисе и Мауве, – добавлял Ян, – но больше всего – о Милле».
Обнадеженные тем, что Винсент общается с достойными людьми и твердо настроен зарабатывать, Дорус и Анна наконец вздохнули с облегчением. Тем летом они ни разу не выразили обеспокоенности делами старшего сына, не проронили ни слова критики по его адресу в письмах к Тео. Родители с радостью предложили Винсенту пустующее здание, где прежде располагалась воскресная школа. Там их сын мог без помех проводить свои странные ритуалы с местными крестьянами, которых родители Винсента доверчиво (после его пылких заверений) предпочли воспринимать как веху на пути к достойной цели: их старший сын возвращался к «нормальной жизни», о чем они столько лет неустанно молились.
Антон ван Раппард. Пассиварт близ Сеппе (Пейзаж близ Сеппе). Карандаш. Июнь 1881. 11,5 × 16 см
Когда в июне в Эттен приехал Антон ван Раппард, казалось, что их молитвы услышаны. Визит молодого господина из хорошей семьи служил лучшим доказательством того, что надежды Винсента и его родителей небеспочвенны и начало его новой жизни не за горами. В первый же день все семейство в сопровождении уважаемого гостя совершило длинную прогулку с целью показать ван Раппарду окрестности, а его самого – соседям. В воскресенье он отправился с ними в церковь и сидел на скамье, зарезервированной для семьи проповедника, на виду у всех прихожан. И наконец, Винсент отвел гостя в Принсенхаге, чтобы познакомить с больным дядей Сентом, который, правда, оказался слишком слаб, чтобы их принять.
Одобрение родителей и внимание нового друга наполняли Винсента ликованием. «Тогда Ван Гог был в очень хорошем настроении, – вспоминал Ян Кам время, которое Раппард провел в Эттене. – Я никогда больше не видел его таким веселым». Вооружившись складным табуретом и альбомом для эскизов, Винсент водил ван Раппарда на экскурсию по своим любимым местам в окрестностях Эттена. Он ходил с ним в таинственные леса Лисбоса на востоке, в печально знаменитую деревню Хейке на юге (приют всевозможного сброда, где Винсент часто набирал моделей) и в болотистую область под названием Пассиварт на западе.
Не раз во время подобных прогулок, поставив рядом складные табуреты, молодые люди чествовали свое артистическое братство совместной работой. Вновь пережить это чувство товарищества Винсент будет стремиться всю жизнь (наиболее яркий пример тому – Желтый дом в Арле).
Во время рисования они менялись ролями: Раппард шел впереди, а Винсент следовал за ним. Чем больше радушия выказывали родители Винсента симпатичному и благовоспитанному молодому художнику, тем охотнее Винсент принимал «правильное» творчество своего друга. Еще в Брюсселе Винсент восхищался рисунками Раппарда. Его деревья, пейзажи, живописные сценки, нарисованные карандашом и пером, Винсент считал очень «остроумными и милыми». Он перенял излюбленную Раппардом технику работы тростниковым пером и чернилами, а также характерные для его рисунков короткие и быстрые штрихи, позволявшие изобразить бесконечное многообразие фактур природных объектов.
Отчасти, именно подражая ван Раппарду, который, как многие молодые художники, каждое лето предпринимал подобные вылазки на этюды, Винсент заинтересовался эттенскими пустошами.
После приезда Раппарда Винсент на время отвлекся от рисования людей и обратил внимание на пейзажи. Вместе они рисовали дорогу на Леур в обрамлении низкорослых подстриженных ив, лес в Лисбосе, болота Пассиварт, за которыми на горизонте виднелся город Сеппе.
Несмотря на одни и те же сюжеты, одинаковую технику и точку зрения, рисунки, возникавшие в результате этих совместных сессий, отличались друг от друга так же, как создавшие их люди. С места, где они расположились, рисуя Пассиварт, Раппард отчетливыми штрихами карандаша изобразил далекий город, словно остров, дрейфующий посреди листа белой бумаги размером не больше почтовой открытки. Само болото он едва наметил несколькими штрихами, обозначившими камыши и водоросли, а небо, в намеке на облака, затенил тончайшим серым тоном. Сидевший рядом с Раппардом Винсент, напротив, опустил взгляд вниз.
На его рисунке, куда большего размера, крохотный город на горизонте прижат к верхней границе листа; все свое внимание рисовальщик сконцентрировал на изобильных водах у самых ног. Там он обнаружил целый замысловатый мир камышей, цветов и листьев кувшинок – каждый со своим причудливым абрисом, формой, тенью, своим перевернутым отражением на спокойной поверхности освещенного солнцем болота. С маниакальным азартом, которому не учило ни одно из пособий по рисованию, Винсент заполнил нижнюю часть листа точками, темными пятнами, расплывчатыми кругами и извилистыми линиями – в попытке запечатлеть безграничное разнообразие, так хорошо знакомое Винсенту еще со времен ручья Гроте-Бек. Он нарисовал птицу – гостя из своего детства, – порхающую над водой в поисках насекомых, которыми, несомненно, должна была кишеть эта изобильная графитная растительность.
Покуда Раппард тем летом набрасывал свои неизменно сдержанные и правильные пейзажики – уходящие вдаль дороги с ровными рядами деревьев по обеим сторонам и бескрайние вересковые пустоши, – Винсент дал волю своей фантазии, создав нечто экзотическое, поразительное. Вероятно, уже после отъезда ван Раппарда объектом пристального интереса Винсента стала деревянная беседка в дальнем конце сада за домом. Он и прежде часто делал зарисовки домов, куда переезжали его родители; такие рисунки были для него чем-то вроде записок на память. Набросок, который Винсент начал в тот летний день, мог задумываться как прощальный подарок Раппарду или сестре Вил, которая уезжала из Эттена приблизительно в то же время.
…Кажется, еще недавно на деревянной скамейке у заросшей диким виноградом стены кто-то сидел, и вот теперь она опустела и кажется печально поникшей. Напротив стоит отодвинутый металлический стул; в тени деревянного навеса беседки он кажется брошенным. На земле между ними – корзинка и забытая садовая перчатка. Лихорадочное воображение Винсента оплело эту призрачную драму растительной жизнью, еще более завораживающей, чем на рисунке с водяными лилиями. Как будто художник, чтобы ослабить боль одиночества, заставляет себя упиваться буйством растений – виноградной лозы, трав, цветов, колючего кустарника. Но вместо утешения этот хаос пышной и равнодушной к человеку жизни заставляет лишь острее почувствовать сиротливость опустевшей беседки. Это скрытое в природе болезненное противоречие и спустя годы будет тревожить Винсента, заставляя снова и снова возвращаться к этой теме.
Болото с водяными лилиями. Перо, чернила, карандаш. Июнь 1881. 23,5 × 31,4 см
После отъезда Раппарда, гостившего в Эттене двенадцать дней, Винсент почувствовал себя, как никогда, одиноким, а его желание, подобно блудному сыну, быть безусловно прощенным и принятым собственной семьей, как никогда, обострилось. После стольких поисков и страданий разве не заслуживал он той любви, какой родные его друга Раппарда, и в особенности отец-адвокат, одаривали своего сына? Вновь вспыхнувшее желание завоевать сердца тех, кто так долго был настроен против него, отчасти, должно быть, вдохновил пример отеческого всепрощения, который Винсент обнаружил в прочитанном тем летом романе Бальзака «Отец Горио». В июле домой приехал Тео – ради него их сестры Анна, Вил и Лис тоже вернулись в Эттен; и зрелище единодушного семейного расположения, окружающего брата, составляло столь разительный контраст с его собственными отношениями с родными, что Винсент сказался больным и отправился в постель. Тео недавно получил должность управляющего одним из трех парижских магазинов «Гупиль и K°». Его элегантный костюм и парижские манеры служили живым напоминанием о том, какой долгий путь предстоял Винсенту, если он действительно хотел наверстать упущенное.
Но спустя всего несколько недель после отъезда Тео Винсенту показалось, что он обнаружил возможность одним махом преодолеть расстояние, отделявшее его от цели, а заодно покончить со своим горьким одиночеством. В августе он предложил Кее Вос стать его женой.