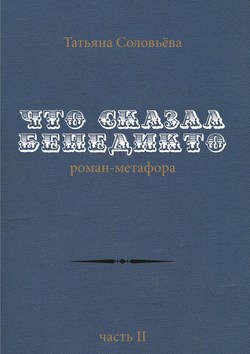Читать книгу Что сказал Бенедикто. Роман-метафора. Часть 2 - Татьяна Витальевна Соловьева - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 26. Удар в сердце
ОглавлениеВебер еще месяц оставался у Абеля, но почти не видел его. Абель пропадал в клиниках и оперировал.
Аланд сам долечивал Вебера, бесконечные дыхательные упражнения, энергетическая гимнастика. Медитацию Аланд позволял только в своем присутствии. Приходили друзья, Кох с Клемперером основательно готовили его к чтению лекций по разным разделам математики, – Вебер написал свой первый собственный курс, и Аланд вполне одобрил его математический труд. Гейнц работал с ним над концертами Моцарта. Аланд стал позволять походы в зал – ненадолго, но работа началась. Аланд тоже часто уезжал, и бывало, что до утра не возвращался. Вебер с Гейнцем, или даже все они вместе – с Вильгельмом и Карлом, позволяли себе ночные музицирования. После общих занятий Вебер оставался один, сидел за роялем в зале, возвращая рукам беглость, которую, как он считал, за месяц лежания у Абеля он утратил.
Аланд несколько иронично отзывался о «режиме» Вебера, который Вебер так тщательно соблюдает в его и Абеля отсутствие, но Вебер видел, что Аланд скорее поощряет, чем порицает его музыкальное усердие. Чувствовал себя Вебер хорошо, отношения с друзьями как будто наладились. Об инциденте с утопленной машиной и «пьянством» Вебера никто не вспоминал. Машину Карл восстановил – садись и поезжай. Энергетическая гимнастика постепенно разбавлялась физическими тренировками, Вебер стал появляться на разминке. Только Абеля все равно будто не было в Корпусе. Появления его стали совсем редкими и приезжал он – веселый, бодрый – совсем ненадолго. Вебер не спрашивал Аланда, где болтается Абель, не спрашивал Абеля, потому что им его вопрос и без произнесения вслух был понятен. Не говорят – значит, не нужно.
Вебер уже опасался «ждать Абеля» – лучше не ждать, как есть, так и есть. Довольно того, что у Абеля все в порядке, что он шутит, улыбается. Что бесшумной, легкой походкой иногда он промелькнет в стенах Корпуса. Иногда он приезжал вечером и молча садился в зал в классе музыки – послушать. Несколько раз сам возил их с Гейнцем к отцу Адриану и восхищался их игрой на органе. На улыбки и похвалы он не скупился.
Вебер о поездке Абеля так ничего толком и не знал. Но Абель был на подъеме, какая-то работа полностью поглощала его. Когда он возвращался, говорил с кем-то, сидел в зале (разминка и зал единоборств – не были для него обязательны, он почти не бывал там), лицо его играло улыбкой, глаза смеялись, и в то же время на глубине этих глаз – Вебер чувствовал это – таилась какая-то печаль и не прекращалась оставленная им работа. Поэтому и тревожить его было неудобно.
В августе Вебер прочитал несколько пробных лекций перед преподавателями Военной академии в присутствии самого начальника академии генерала Гаусгоффера. Несколько часов с Вебером «беседовали» (по сути, экзаменовали), задавая вопросы из разных областей математики. Вебер как никогда был благодарен своим друзьям – Карлу и Вильгельму – натаскавшим его так, что затруднений опрос не вызвал. Аланд, сидевший в последнем ряду и не вставивший ни слова, – Вебер видел это, – был им доволен.
Вебер смутился, когда в спортивном зале на ковер против него вышли сразу пять офицеров. Аланд подошел и сказал Веберу, чтоб он не беспокоился – действовал по обстановке, работал внимательно, аккуратно, без особой агрессии, главное, чтобы никто серьезно не пострадал, – то есть Аланд не сомневался в победе Вебера и переживал только, чтоб он не перестарался и не покалечил кого-нибудь. «Они не умеют драться, Вебер, не забывай об этом. Терпение и выдержка. Держи их в поле зрения. Что я тебе объясняю?..»
«Поединок» Гаусгофферу так понравился, что класс восточных единоборств он отдал Веберу без обсуждений – в порядке личного распоряжения.
С сентября Вебер вышел читать лекции по математике и вел в академии класс восточных единоборств. Ему было немного неловко от того, что математику читает не Карл и не Вильгельм, что учит драться – он, последний человек в Корпусе. Но Аланд сказал, что это дело Вебера.
Академия отнимала много времени. Нахождение среди такого количества людей для Вебера было непривычно, он уставал и выматывался. Курсанты-слушатели, как правило, были старше его, не говоря о преподавателях – сплошь высших офицерах. О Вебере шептались, говорили много обидных вещей, о серьезной протекции, о молодом выскочке, но после того как Гаусгоффер пару самых многоречивых убрал из академии – разговоры сами собой прекратились.
С курсантами Вебер ладил, его – несмотря на его возраст – уважали и слушали. Те курсы, где вел занятия Вебер, гордились, что им повезло – у них «читает» и «ведет» сам Вебер, ученик Секретного Корпуса Аланда. Это немного согревало сердце Вебера, он был рад, что хотя бы не опозорил Корпус и, похоже, надежды Аланда оправдал.
Стали налаживаться отношения с офицерами, с ним заговаривали, его звали «пообедать», подсаживались к нему за столик в столовой, где он появлялся редко – не столько поесть, сколько отсидеться, перевести дух.
Но он хотел успевать и то, что было его обычной, ежедневной работой в Корпусе, а времени катастрофически не хватало. Он почти не отдыхал. Ночные часы уходили на подготовку к лекциям, на медитацию с Аландом, а хотелось еще самому посидеть над Моцартом и сонатами Скарлатти, которыми почему-то он сам увлекся. Гейнц помогал ему, рассказывал удивительные вещи о контрапункте и особенностях гармонии этих сонат. Вебер старался успеть к тренировкам в зал единоборств, – хоть он и вел их в академии, но трезвой самооценки не терял, даже Карл теперь стал очень серьезно относиться к поединкам с Вебером, не позволяя над собой никаких преимуществ.
Кох или пропадал в своем конструкторском бюро, или сидел над разработками, не давая себя отвлекать и беспокоить. В классах музыки и единоборств Карл, Гейнц и Вебер все чаще оказывались втроем. Без Коха друзья посмеивались над Вебером куда более откровенно, и Вебер чувствовал, что не выдерживает.
На вечернем отчете в ноябре Вебер осмелился спросить Аланда, в самом ли деле ему так нужна эта академия? Он ничего не успевает, он устает так, что приходит и валяется мертвецом. Что он не понимает, отчего он так устает и что ему не нужны эти люди и эти лекции, тренировки каких-то курсантов, разговоры офицеров, их вечное любопытство и желание повыведать «как там у Аланда?». Он совсем забросил все свои дела, он сто лет не был на общих занятиях Корпуса, не слышит лекций Коха, Гейнца, Карла. Он стал изгоем в Корпусе. На что Аланд пожал плечами и сказал, что если Вебера что-то не устраивает, то он оформит Веберу до конца учебного года полный перевод в Академию. Ему нужно просто открыться тем людям, которые его окружают. Попробовать услышать, что они говорят, понять, как они живут, не противопоставлять себя им, а попытаться вжиться в их проблемы, их образ мыслей. Это такие же люди, у них не было школы, как у Вебера, но это не означает, что Вебер их в чем-то лучше.
Наутро Гаусгоффер распорядился, чтобы Вебер вел еще класс стрельбы и владения холодным оружием. Вебер понял, что бунт лучше не устраивать, пока все курсы академии ему не поручили преподавать. Но Абелю, приехавшему в Корпус и уже несколько дней его не покидающему, Вебер в отсутствие Аланда пришел и пожаловался на свои несчастья. Абель улыбнулся, сказал, что «это, конечно, тяжело, что он бы не смог целые дни проводить среди этих дегенератов», – и Вебер понял, что Абель тоже по этому поводу может только иронизировать – он-то вне Корпуса почти постоянно. Абель сказал, что сейчас для Вебера разумнее меньше времени уделять музыке и больше – медитации, или даже просто поспать, что отдыху и восстановлению сил он уделяет мало времени, а потому изматывает себя и закончится это переутомлением и срывом.
– Музыка – это все, что у меня осталось, Фердинанд. Это моя отдушина. Неужели ты не понимаешь? Я на органе не играл три месяца, я могу пару часов посидеть за фортепиано или клавесином – и если убрать даже это, то зачем все это было вообще? Даже ты перестал понимать меня.
– О, я давно перестал понимать тебя, фенрих, – Абель сказал это с сожалением, но Вебер не то чтоб рассердился, он понял, что Абель для него со своего Востока так и не вернулся, что это не тот человек, который когда-то мог его понять. И Аланд – совсем не тот, загородился – как стеной, к нему не пробьёшься. Просто генерал, как Гаусгоффер. Гаусгоффер даже чаще общался с Вебером, всячески пытаясь окончательно переманить Вебера в академию.
Гейнц переигрывал скрипичные концерты Моцарта, и в классе музыки оркестровые партии играл ему Карл. Вебера стали просто выпихивать вон, потому что «Абель сказал», что Веберу нужно отдыхать – и никаких пока классов музыки. Для Вебера это был удар, на Абеля он и смотреть больше не хотел, едва здоровался и шел мимо.
Вебер чувствовал, что он в полной изоляции. В Корпусе его словно заживо похоронили. Он все равно не ложился спать и медитацией ограничивался только той, что Аланд принуждал его заниматься под своим контролем.
По ночам он садился за пианино и разбирал сонаты Скарлатти, играл Моцарта, гонял упражнения. К утру он кое-как взбадривал тело душем и плелся на разминку, сам понимая, что доводит себя до какой-то черты, что немного осталось, он уже ничего, кроме отвращения к жизни, не испытывает. Он стал забываться даже на лекциях. Говорил – и вдруг понимал, что не помнит, о чем он только что говорил. Просто замолкал и по несколько секунд вспоминал.
Из класса единоборств его не гнали, но Карл уже несколько раз, уложив Вебера на ковер, иронизировал над корифеем и мастером единоборств – Рудольфом Вебером, которого он нечаянно уронил. Вебер пытался делать вид, что ему это не обидно, он понимал, за что Карл ему мстит. Все тот же приезд Абеля, все та же его дикая клоунада…
В класс единоборств идти не хотелось – потому что хохотали над ним Карл и Гейнц совершенно одинаково. Они вообще спелись и пластали Вебера на ковре оба, чем дальше, тем легче. Вебер чувствовал, как у него даже сердце заходится от отчаянья, но делал, что вид, будто ему тоже смешно, как и им. Признаваться нельзя.
За неделю до Рождества – Вебер узнал, что на концерте он не играет, его все так же гнали отдыхать, говорили, что ему – как почетному магистру всех наук – обеспечена парадная, королевская ложа в зрительном зале, что он будет сидеть по правую руку от самого Аланда. И даже доктора Абеля посадят слева, если, конечно, Абель не решит опять козырнуть арией Мефистофеля.
Вебер пожимал плечами, улыбался, шел к себе. Улыбка, конечно, была вымученной. Абель иной раз как будто что-то хотел ему сказать, но Вебер шел мимо и запирался у себя.
В тот вечер Вебер тоже заперся в комнате, сел за клавесин. Он переигрывал те сонаты Скарлатти, что в эти четыре месяца кошмара сам одолел. Играл – и вдруг понял, что не хочет и этого, что ему как-то странно не по себе, ему холодно, что у него болит голова – ее медленно зажимают неумолимые стальные обручи, что пальцы перестали подчиняться ему. Он посмотрел на постель и помотал головой – всего разумнее было потеплее укрыться и лечь спать, но он свалил тело в кресло и попробовал расслабиться в медитации. Через час идти к Аланду, – хорошо, если он сумеет себя до Аланда привести в порядок, чтобы без лишних вопросов и строгих взглядов. Надоело все, просто надоело.
Вебер понял, что он жалеет, что, стоя по грудь в ледяной воде, он промахнулся, не доверяя хорошему оружию. Думать об этом, идя к Аланду через час, не стоило – иначе устроит такой разгон, что и переводу к Гаусгофферу всерьез обрадуешься. И Вебер подумал – а почему не перевестись? Раз здесь его место в зрительном зале, раз здесь он стал чужим абсолютно всем – то за что он так цепляется? Его просто выталкивают, и это не случайно сложившееся отношение. Он хватается за прежнюю жизнь, которой больше нет, вот ему пальцы и отбило, он не такой дурак, чтобы все это не понимать.
Насчет медитаци у Вебера было строгое предписание. Тот вид, который он практиковал с детства, то есть «безмозглое» болтание в астральных небесах, ему был запрещен, но Вебер захотел еще раз проверить, сшибут ли его с небес. Может, и нет? Раз он все равно отсюда вот-вот уйдет, то это снова станет его основным спасением.
Без Корпуса он не знает, как жить, отчаянье еще не раз вернется к нему, и, как в детстве, он будет бежать из этого чуждого мира в свои запретные Небеса.
Он только сел и худо-бедно расслабил тело, как в дверь постучали.
Вебер открыл – Абель. Вот уж кого ему видеть не хотелось, так это Абеля.
– Пошли ко мне, Рудольф.
– Аланд вызывает?
– У тебя жар. Пойдем со мной.
– У меня все в порядке, Фердинанд, отстань от меня. Я понимаю, чего вы хотите, можете перевести меня к Гаусгофферу. Я не возражаю. Не надо со мной проводить никаких бесед. Я хочу побыть один.
– Рудольф, я повторяю, ты заболеваешь. Ты хочешь слечь?
– Не беспокойся. Завтра я поеду на лекции.
– Не поедешь. И можешь очень долго еще не поехать.
– А это в ваши планы не входит. Но я поеду. А сейчас у меня время отдыха. К Аланду мне через час. Я приду. Сейчас я не хочу тебя видеть. Ты сам всем приказал гнать меня отовсюду, чтобы я отдыхал. Вот и иди – я буду отдыхать. Я буду тебя слушаться. Всё будет так, как ты за меня решил.
Вебер закрыл перед Абелем дверь и повернул в замке ключ.
Ему непросто было выдать это Абелю, но он был рад, что хватило дерзости сказать все напрямоту. Он послушал у двери, не застучит ли Абель снова – не застучал. Хорошо. Жар – может быть. Это не самая большая проблема. В медитации жар исчезнет. В детстве Вебер так и лечился. Получил от отца – и в берлогу, залечивать раны в своих небесах. Это не простуда, потому что, кроме головы, не болит ничего. Разве что сердце очень неприятно и часто колотится в груди. Просто надо успокоиться.
Вебер закрыл глаза, дождался алых, оранжевых, разрастающихся, втягивающих внутрь ворот – и провалился в них. Давно забытое наслаждение, громады, целые гребни-пласты облаков внизу, ощущение простора и покоя. Душа так устала, что и здесь обычное ликование сразу не приходило – было ощущение тревоги и покинутости. Зато черная точка на горизонте встала почти сразу. Она еще не нарастала, не начала своего молниеносного приближения – можно было убраться, но Вебер упрямо застыл, почти с вызовом ожидал ее приближения. А если попробовать отразить этот удар? Бессмысленно, силу того удара он помнил хорошо, но если как-то собраться, сгруппироваться, уклониться…
Точка чуть увеличилась, стала пятном, но это было медленное, запугивающее приближение, как сближение соперников, когда главное – психологически не уступить. Но краски и красота вокруг – все поблекло, все в серо-белых тонах, будто испортилось зрение. Можно уйти. Но Вебер ждал – пусть сшибают. Потом приближение было таким же мгновенным – и тот же чудовищный удар. Сознание Вебера погасло.
Он очнулся в кресле и не мог понять, сколько прошло времени, что с ним произошло, только дрожало в груди сердце, и тело было онемевшим, словно чужим. Дыхание поверхностно проскальзывало в легких. Вебер чувствовал, что этот удар был в сердце. Странно, что жив.
Время шло, он пытался пошевелиться. Соединить свои рассогласованные и смещенные, выбитые тела в одно. Кое-как шелохнулись плечи, сердце колотилось неровно, но не трепетало, как в первые минуты. Вебер поднялся – страх еще не отпускал его.
После этого к Аланду на глаза лучше не показываться. Он строго предупреждал, и даже Небеса его, даже сама эта странная, страшная сила предлагала ему уйти, – это только вина Вебера – в том, что с ним это случилось. Сам напросился. Вебер посмотрел на часы – через десять минут он должен быть у Аланда. Аланд прощает многое, но своеволия в медитации он не прощает. В тонких мирах не шутят. Для того и учитель, чтобы ученик по неопытности не погубил себя.
Вебер сбросил одежду, встал под душ, надеясь, что вода подправит его покореженное тело. Скрыть своих подвигов не удастся – но тем будет легче Аланду выгнать его к Гаусгофферу, – повода искать не придется.
Сердце болело. Вебер взглянул в зеркало – и подошел поближе, разглядывая свою грудь. Два свежих стигмата: один чуть левее грудины, другой правее левого соска. После первого полета с небес у него такие метки остались в правом подреберье. Непонятно всё равно, почему он жив. Ударило точно в сердце. Почему оно не встало, а только заходится под двести ударов в минуту и спотыкается?
Вебер слабой рукой поводил по себе полотенцем – даже одеться нет сил. А в дверь опять стучат – и это уже Гейнц. Как это он отвлекся от своего класса музыки?
– Сейчас, Гейнц, – сказал Вебер и сам удивился – голос почти отсутствует.
Гейнц настойчиво тарабанит.
Вебер мокрыми ногами влез жесткие штанины. Как бы еще лицо разгладить, чтоб не морщиться. То, что сердце болит – это ладно, но Веберу очень плохо. Не снимая с плеча полотенца, Вебер отпер замок, отошел.
– Фенрих, ты почему к Аланду не пришел? Абель говорит – ты заболел, но и его к черту послал. Ты что, опять развоевался?
Гейнц сыпал вопросами, комментариями. Вебер отворачиваясь, сел на постель. Это хорошо, что Абель сообщил, что он заболел. Можно попробовать за этим заключением и схорониться.
– Гейнц, я, в самом деле… Я сегодня Аланду только надоем своей тупостью.
– Да своей тупостью ты всем надоел, фенрих. Если плохо и Абель сам к тебе пришел, то что ты выделываешься?
– Не ходите вы ко мне каждые пять минут. Я хочу спать. Хочу быть один.
– Да я с тобой спать и не собирался, – Гейнц зло цеплялся к словам.
Веберу было не до шуток. Он сидел, упираясь в постель прямыми руками, – так, кажется, легче дышалось. Но сердце все набирало темп, в глазах мутилось.
«Как тебя выгнать-то, Гейнц?»
Гейнц расположился в кресле, взял с подставки оставленную Вебером сонату Скарлатти.
– Гейнц, поставь на место и уйди. Ты ведешь себя бесцеремонно.
– А надо церемонно? Так, может, Абеля все-таки позвать? Он не такой церемонный – придет, даже после того, как ты его выгнал.
Абеля сейчас – это бы очень хорошо. Но Вебер, в самом деле, его выгнал, и нет – значит, нет.
– Никого не надо. Я просто посплю.
– Ну, счастливых тебе сновидений, фенрих. На разминку будить? Или только после китайских церемоний?
Сердце чуть поубавило темп – хоть видеть начал.
– Гейнц, если нельзя – не отвечай, или правду – или ничего. Вам приказано меня отсюда выжить? Кто – Аланд? Или это Абель распорядился?
– Привет, фенрих. Договорился. Никто ничего не приказывал. Ни Аланд, ни Абель. Оба просто просили тебя разгрузить пока с музыкой – из-за твоего нездоровья. В класс единоборств ты сам перестал приходить.
– Вы с Карлом все время надо мной смеетесь, словно я сам напросился в эту чертову академию.
– Мы не над тобой смеемся, а над твоей академией, где последний сопляк Корпуса – еще и за мэтра единоборств сойдет.
– Я не последний сопляк Корпуса, Гейнц. Ты даже не замечаешь, что это обидно.
– Это медицинский факт, Вебер. На это смешно обижаться. Если ты им быть не хочешь – то вкалывать надо. Обижаться, конечно, приятно и необременительно. Лежи себе на кровати и думай, какие все сволочи. И главное, какой ты хороший, правда?
– Я понял, Гейнц.
– Дай-то Бог. Ладно, не буду нарушать твоей приватности. Спокойной ночи.
Гейнц ушел, а Веберу еще хуже, как оплеван с головы до ног. Всё, конечно, правильно, придраться не к чему. Но Гейнц становится просто жестоким.
Вебер натянул китель, сапоги, шинель тяжелая, еле на плечи накинул. Как он завтра будет работать? Пожалуешься – лишнее подтверждение их правоты. Аланд поймет, в чем дело, – тогда лучше сразу в реку и на дно. Если еще и он сейчас начнет разносить…
Вебер спустился по стене на пол, опять все плывет, опять сердце затрепетало, как бабочка. Как бы уйти отсюда? Просто уйти. Как он себе ненавистен.
Дверь он, оказывается, не запер, потому что без всякого стука вошли Аланд и Абель, как всегда между собой продолжая свой – не для ушей Вебера – разговор. Вебер уперся взглядом в носок собственного сапога, собирая весь остаток сил, чтобы хоть внешне принять все спокойно.
Но его никто ни о чем не спрашивает. Продолжают говорить, несколько напряженно – тоже сдерживаются. Вебера подняли, из шинели вытряхнули, китель – тоже долой, Абель вроде как приобнял за плечи – и резко бьет по грудине. Сердце глубоко споткнулось и забилось почти нормально. Вебера Абель осторожно кладет на постель – всё, что ли? Даже как-то несерьезно. Вебера, конечно, никогда не били здесь, но – раз уж начали, – и есть за что, то как-то мало дали. Ему только лучше стало. Вебер, тем не менее, бдительности больше не терял – цепко следил за руками Аланда и Абеля.
Аланд сел рядом, – обе руки Веберу на сердце. Стало отпускать. Аланд говорит только с Абелем. Веберу вдруг очень хочется спать, мысли путаются, перед глазами все то фокусируется, то расплывается. И Вебер, так ни слова от Аланда и не услышав, крепко заснул.
Утром Вебер проснулся у себя. Спал он в разобранной постели, тело благодарно гудело, наполненное силами и отдохнувшее каждой мышцей. До разминки – пятнадцать минут. Вебер встал, прислушиваясь к себе, – всё в порядке. Тот кошмар, что с ним был вечером, безвозвратно исчез. Ему хотелось думать, что исчез именно безвозвратно, что вчера чудесным образом он не подвергся никаким объяснениям, разбирательствам его проступков, но всё болезненное Аланд с Абелем в нем исцелили.
Вебер привел себя в порядок. Осторожничая, несколько раз присел, отжался, слушая, как ведет себя взбесившееся вчера сердце, – вроде бы всё как всегда, то есть хорошо. Неприятный осадок остался от злой язвительности Гейнца – но вчера-то всё было поделом. Главное, что он себя нормально чувствует и после разминки сможет поехать в академию – отпрашиваться не придется.
Вебер вышел ровно в шесть, чтобы прийти прямо к пробежке. Карл, Гейнц и Кох были уже у турников, а вот Абеля и Аланда не было, и света в их окнах не было. Может, они снова в отъезде – теперь чаще бывает именно так. Инстинктивно ноги сами повели Вебера поближе к Коху – и подальше от весельчаков.
– Привет, Рудольф, – Кох подал руку.
Вебер в руку его вцепился, как утопающий. Гейнц с Карлом до такого приветствия не опустились, Вебер буркнул им свой «привет» и, не глядя Коху в глаза, встал у его плеча.
– Все в сборе, – сказал Кох.
– Этот малохольный – тоже бежать собрался? Ему господин генерал приказал оставаться в Корпусе, делать энергетическую гимнастику – и не более, – сказал Гейнц. – Он просил проследить, чтобы без самодеятельности.
– Иди в зал, Рудольф. Ты слышал приказ?
Вебер кивнул и поскорее убрался в зал. Хорошо, что останется один. Значит, утро началось неплохо. Лекции у него сегодня стояли первые – можно бы уехать туда пораньше. Единоборства – тоже есть, в 16.00, после обеда. День разорванный и длинный.
Разминка переместилась в зал, а Веберу Кох приказал – пройти в среднем темпе километр, принять душ – и на завтрак, Аланд вот-вот подъедет.
Даже Аланд с его неотвратимым нагоняем – это лучше, чем Гейнц и Карл.
– Ты хорошо себя чувствуешь? – уточнил Кох.
Вебер кивнул. Сейчас все было уже не безоблачно. Упражнения он выполнил легко, а вот стоило появиться Гейнцу с Карлом, сердце опять задрожало. Только бы ничего не начали ему говорить.
Вебер прошел указанное расстояние по шоссе, вернулся к себе. Переоделся по форме, взял папку с лекциями и скорее улизнул. В машину – и подальше отсюда. Аланд еще не вернулся.
Лекции отчитал – всё в полном порядке. Теперь несколько часов болтаться – просмотрел лекции на завтра и решил, что пообедает где-нибудь в городе, или погуляет по городу. Аппетита особого не было, а усталость неожиданно быстро вернулась к нему. Не стоило бы сегодня проводить единоборства.
Вебер пошел к машине, когда адъютант Гаусгоффера догнал его и вызвал к генералу.
– Вебер, Аланд просил тебя немедленно вернуться в Корпус. Он сказал, что ты вчера заболел. Это так? Ты, в самом деле, какой-то не такой, как всегда, – ты не мог сам ко мне подойти?
– Виноват, господин генерал. Лекции я провел, но от класса единоборств мне, если позволите, сегодня лучше воздержаться.
– Поезжай в Корпус. Завтра будешь?
– Да. Конечно.
– Поезжай. Не думал, что вы у Аланда болеете.
– Это случайность, я вчера был неосторожен на тренировке.
– Зайди к доктору Клеменсу.
– Благодарю, у нас в Корпусе есть к кому по этому поводу обратиться.
– У меня на тебя большие планы, Рудольф. Я пытаюсь протащить тебя на майора – ты думаешь, это легко, учитывая, что тебе двадцать три года?
– Спасибо вам, господин генерал. Это большая честь для меня.
– Вебер, я вижу, что у тебя там все не так хорошо. Переходи ко мне. Дам квартиру хорошую, женишься. Карьере твоей обзавидуется сам Бонапарт. Ты не можешь сказать, что я к тебе плохо отношусь. Рудольф, хороших офицеров мало. Я тебе добавил жалованье. Тебя ценят курсанты, тебя уважают преподаватели. Что тебе еще нужно?
– Мне дорого ваше доверие, господин генерал. Я буду работать с полной отдачей. Если мне прикажут перевестись к вам – я сделаю это с удовольствием.
– Вот это другой разговор. У Аланда полно хороших офицеров. А у меня, – он подошел поближе и шепнул Веберу, изображая ужас на лице, то есть – шутя, – ни одного! Пусть господин генерал всеми своими дьявольскими способами до завтра приведет тебя в порядок. Ты получил жалованье? Его сегодня выдают.
– Оно поступает на счет… Я не получаю жалованье в руки – мне не нужны деньги.
– Вебер, – Гаусгоффер отечески взял Вебера за плечи. – Не могут парню в двадцать три года не нужны быть деньги. Девушку в ресторан пригласить – они нужны? Цветы, безделушки – что ты мне рассказываешь. Ты что, больной?
– Нет, я здоров. Мне некогда этим заниматься.
– Ну, и зря. А когда ты будешь этим заниматься? Когда тебе исполнится 90? Это сейчас на тебя любая красотка залюбуется – и сама за тобой побежит. Вебер, офицер – это не монашеская профессия. Офицеру должно быть, кого защищать, перед кем хочется пройтись генералом. Вебер, жениться тебе надо, и всем твоим странным болезням наступит конец. Поверь моему опыту. Я к тебе привязался, словно ты мне родной. Что ты скис? Это всё от твоего одиночества. Идем.
Гаусгоффер достал бумажник, протянул Веберу несколько крупных ассигнаций.
– Держи – я оформлю это как официальное вознаграждение за образцовую службу. Деньги у мужчины должны быть. Это дает свободу.
Вебер усмехнулся, опуская взгляд.
– Мне не нужно, господин генерал. Я не заслужил такого отношения.
– Вебер, вся твоя беда в том, что ты цены себе не знаешь.
Вебер отвык, оказывается, от теплых, доверительных интонаций и слов. Он уже разволновался, сердце предательски набирало обороты, все разгоняясь – до вчерашнего тумана в глазах. Не хватало упасть.
Гаусгоффер положил деньги в нагрудный карман Вебера и повел, обнимая за плечи, к дверям, а потом и по коридору. Салютовали Гаусгофферу, а Вебер шел рядом, быстро бледнеющей тенью, и всё-таки был вынужден остановится.
– Господин генерал, можно я постою?
– Рудольф, до чего ты довёл себя?
Вебер облокотился о подоконник, опуская голову. Абель вчера ударил его в грудь – сильно и резко, но сердечное трепетание прекратилось. До машины бы дойти – он бы сам себе врезал. Вебер пытался перебороть головокружение правильным дыханием – но не мог справиться даже с ним. Что он вчера с собой натворил?
– Вебер, что с тобой? Тебе плохо? Идем к Клеменсу, немедленно. Или я его вызову сюда.
– Я прошу вас, господин генерал, не придавайте значения. Я неудачно упал вчера на тренировке. Это моя оплошность, это пройдет… – врал Вебер.
– Представляю, как Аланд муштрует вас, если ты раскидал моих лучших борцов, как котят. Но мне очень не нравится то, что с тобой сегодня творится.
– Если вы меня сегодня отпускаете…
Это было совсем ни в какие ворота – ноги подогнулись, и он, чувствуя ненавистную массивность своего тела, повалился на пол.
Очнулся он в кабинете Клеменса. Тот смотрел на Вебера с тревогой. Гаусгоффер, страшно нервничая, расхаживал рядом и, едва Вебер открыл глаза, немедленно сел на стул рядом с кушеткой, на которой лежал Вебер.
– Живой?
– Извините, господин генерал. Ничего не понимаю…
– Вебер, у тебя сердце встало – ты понимаешь?? Встало! Ты был мертв. Я Аланду – голову оторву, что он с тобой сделал?!
– Причем тут Аланд?
Вебер сел, несмотря на то, что Гаусгоффер пытался его удержать.
– Со мной всё в порядке.
– Ты вообще отдыхаешь? Ты ешь? Спишь? Ты гуляешь? И что за шрамы у тебя по всему телу? Что за дыры на сердце?? Что с тобой там делают??
Вебер удивленно смотрел на Гаусгоффера.
– Что вы такое говорите, господин генерал? Меня взяли в Корпус разбитым куском мяса и собрали по частям, меня вылечил Аланд и наш доктор Абель. Это старые шрамы.
– Да, господин генерал, – подтвердил Клеменс, – это старые следы. Хоть и не понимаю, Вебер, как тебя могли собрать – после этого. Этого хватит на десяток надежных трупов. А ты еще молодец, говорят, каких не бывает.
– Мне нужно ехать. Я быстро восстанавливаюсь. Думаю, что смогу завтра…
– Никакого завтра, Вебер, никакого завтра. Ты не понимаешь, что ты только что был мертв?
– Я не помню. Думаю, что обморок.
Вебер встал, прислушиваясь к себе. Пока все было относительно хорошо. Частило, но сносно.
– Лежи, пусть кто-нибудь из ваших приедет тебя забрать, я позвоню Аланду.
– Вебер, тебе бы, и правда, сейчас за руль не садиться, – сказал Клеменс.
– Я аккуратно. Сюда же я приехал и три часа читал лекции – все было в порядке.
Веберу удалось уйти, он отъехал подальше от академии, но в Корпус возвращаться не хотелось. Он встал у какого-то парка и положил голову на руль. Тело опять казалось чужим и онемевшим. Натворил он дел. Сейчас Гаусгоффер сцепится с Аландом – и потом вообще хоть на глаза никому не показывайся. Аланд бы не пустил его сегодня – это понятно, раз уж он даже разминку ему заменил на восстановительную гимнастику. Наверное, Вебер на ней и продержался четыре часа.
Если бы у него был угол, куда можно ото всех забиться, сейчас он бы так и сделал. Неделю бы отлежался, восстановил себя упражнениями. Пока не занервничал, всё было хорошо. А теперь он обречен только и делать, что нервничать, стыдиться, бояться, – увы, именно – бояться. Не побоев, померещившихся Гаусгофферу, а того, что он никому не может посмотреть в глаза, – кругом виноват. Барахтается, как в трясине, – чем больше пытается выбраться, тем глубже его затягивает. Замереть и не шевелиться.
Майор! Гаусгоффер – добрый старик. Странно, что ему за дело до Вебера? Лучше бы ему не было дела – сердце готово и ему служить верой и правдой за одно доброе слово. В Корпусе можно на «доброе слово» не рассчитывать, это у Гаусгоффера иллюзии насчет Вебера. В Корпусе насчет Вебера иллюзий нет ни у кого. Главное, у него самого их не осталось. Если он не последнее ничтожество, то надо просто вернуться в Корпус, принять всё, что ему по заслугам полагается, и остановиться, пока он еще чего-нибудь не совершил.
Даже мысли выводят его из равновесия – что ж он такой трус? Забился в какую-то щель, и сидит – дрожит. Дыхание забирает, как ему страшно. Офицер! Гейнц убийственно прав – как всегда. Сопляк, а не офицер. И что он на Гейнца злится? Гейнц просто хороший друг, он называет вещи своими именами. На правду глупо обижаться. Сейчас он вернется в Корпус. Сразу… Только немного походит, подышит и настроится на разрешение ситуации.
Вебер вышел из машины, медленно прошелся по обочине. Увидел в парке скамейку. Интересно, этот парк принадлежит частному дому или дом сам по себе, а парк сам по себе? Холодно, но он бы посидел с четверть часа, чтобы окончательно взять себя в руки. Вебер облокотился о машину, опустил голову, опять стараясь побороть туман в глазах. Наверное, парк – частное владение. Без скамейки перебьется. Он же решил, что возвращается сразу.
– Вам плохо? – Вебер услышал возле себя голос.
Он обернулся, и тело его само выпрямилось, стал словно выше ростом. Рядом с ним стояла девушка и смотрела на него с искренним испугом. Вебер смотрел в ее глаза под бархатными, чуть поломанными в середине, линиями бровей. Удивительные глаза. Удивительное лицо. Удивительная близость этого удивительного лица. Разве он что-то мог ей ответить? Но и отвести взор от неё он тоже не мог. Она смутилась, отвернулась, отошла.
– Коля! Все-таки ему плохо.
К Веберу подошел человек с веселыми карими глазами. Лицо обрамляет бородка: мягкая, чуть вьющаяся, воздушная. Глаза хорошие, умные, неравнодушные. Только из-за него отодвинулась на второй план она. Вебер затосковал, стоило ей отступить. Словно он знал уже её тонкую кожу наощупь, знал пьянящий аромат волос этого существа.
Вебер безвольно уронил руки.
– Вам плохо? – вопрос повторился.
Кареглазому лет двадцать семь – тридцать, не больше. Наверное, это его жена. И, наверное, это их дом. Они вернулись домой, а у ворот непонятно чья машина. И на машине висит черт знает кто унылого вида.
– Спасибо, все хорошо.
– Может, вам нужна помощь? У нас в доме есть телефон – можно вызвать врача.
Просто поразительно – первое, что сегодня приходит людям в голову, едва они видят Вебера, – это вызвать врача. Аланд давно должен был его выгнать – только удивляться его терпению. Стыд – и только.
– Извините, я встал не на месте, – сказал Вебер, открыл дверцу машины и снова оглянулся на девушку. Странное чувство – что он знает ее. Но он никогда ее не видел и видеть не мог.
– Извините, – повторил он, садясь в машину.
– Вы уронили, – мужчина подал Веберу его папку с лекциями, заботливо отряхивая ее.
Папка развязана – листы посыпались. Наверное, лежала за спиной, уронил – когда вылезал из машины.
– Что это? Вы – математик? Как интересно. Можно взглянуть?
«Взгляните. А я пока посмотрю в глаза вашей жене. И мне будет, что вспомнить, когда трясина сомкнется надо мной полностью».
– Да, пожалуйста.
– Я работаю инженером. Но люблю теоретическую, чистую, не прикладную математику. Как интересно! Николай Адлер, – говорящий подал Веберу руку. Вебер пожал ее.
– Рудольф Вебер.
– Вы торопитесь?
Надо было сказать «да», а он сказал «нет».
– Может, зайдете к нам на чашку чая? Очень, очень хорошо изложено, очень интересно!
Надо было сказать «нет», а он сказал «да».
– Анечка, ты только посмотри, как это красиво доказано, как это красиво! Рудольф, это ты писал?
– Да.
– Чьи это лекции?
– Мои.
– Ты читаешь лекции? Где? Сколько ж тебе лет? Ничего, что я на ты?
– Мне это приятно. Я первый год читаю в Военной академии математику.
– Рудольф! Тебя Бог послал. Я так люблю математику – а поговорить об этом не с кем. Мало кто действительно её любит!
«И я ее не люблю. Я люблю твою жену».
Она, как крохотный, драгоценный, пушистый зверек – словно ее спугнули – отступила за спину мужа и смотрит на Вебера с недоумением. Он отводит глаза. А взгляд сам собой возвращается к ней.
Вебер провел у них дома, наверное, около часа. Сердце билось, как будто вышагивало на цыпочках по канату – осторожно и деликатно. Николай доставал свои записи, Вебер – как епитимью – принимал их, просматривал, делал пометки, что-то прорешивал иначе. Улыбнулся попыткам Адлера доказать ту недоказуемую теорему, что недавно доказал Карл. Рассказал про Карла, привел его доказательство. Адлер от волнения бродил по комнате, выражал восторг, просил «привезти с собой господина Клемперера», все восхищался провидением, заставившим Вебера именно у их дома встать отдохнуть. Благодарил сердечность жены, – если бы ей не бросилась в глаза странная поза человека у машины, Адлер бы прошагал мимо своего счастья.
«А я бы проехал мимо своего».
Уходя, Вебер осмелился поцеловать протянутую ему для прощания руку Анечки – так бы и пил запах, свежесть, мягкость этого тонкого, самого драгоценного в мире существа. Как хотелось замереть, лицом зарываясь в ее строго прибранных волосах. Если их распустить, если обе ладони утопить на ее висках, перебирая ее темно-темно каштановые волосы, губами пить шелк, бархат, отблеск ее глаз и бровей – вот в этот омут бы провалиться.
– Ты приедешь завтра, Рудольф? – Николай с чувством пожимал Веберу руку.
Надо было ответить «нет», а он сказал «да».
– Правда, приезжай с твоими замечательными друзьями! С господином Клемперером, господином Кохом.
– Они всегда заняты. Но если вы дадите мне свое доказательство – думаю, их это заинтересует…
– Конечно, бери.
Вебер засмотрелся на ослепительно сверкавший рояль – он знал, что это ее рояль, у нее руки человека, долго играющего на фортепиано. У нее руки, которые он никогда не должен выпускать из своих. Странно, это, конечно, катастрофа, но Аланд не удивится, он знает, что Вебер – такой. А он сам этого не знал. Он думал, что это плохо, а на самом деле, в его жизни появилось всё. В его сознании загорелось солнце такой ослепительной яркости, какого не было никогда. Что с этим делать – не ясно, не важно. Главное, что жить теперь имеет смысл.
Вебер не замечал, что так и держит ее запястье в своих руках.
Николай умчался за доказательством наверх по лестнице, а он все-таки чуть приблизил свое лицо к её волосам и вдохнул их аромат, слишком счастливо улыбаясь.
– Что с вами? – она чуть покраснела, смутилась совсем.
Что он мог ей ответить?
– Наверное, я в вас влюбился, – прошептал Вебер настолько тихо, что это был ее выбор – услышать, что он сказал, или нет.
Она не услышала, переспросила: «Что?», но нахмурилась и покраснела еще сильнее – значит, все-таки услышала.
– Очень хочу послушать, как вы играете на рояле, – повторил Вебер то же самое, но иначе, и поэтому громче.
Это уже и Николай услышал.
– Да, да, Рудольф. Анечка – великолепная пианистка!
«Анечка!»
А теперь, пожалуй, и в Корпус. Или на занятия по единоборствам в академии. Правда – по времени пора. С ним ничего не случится. С ним никогда больше ничего не случится. Потому что в нем самом сегодня вспыхнуло жаркое солнце.
Интересно, что к Гаусгофферу на замену Вебера Аланд прислал Гейнца. Занятие еще не началось, курсанты собирались в зале – минут пять у них есть. Гейнца явно оторвали от каких-то важных и дорогих ему дел. Он прохаживается вдоль стены, собирается. Вебер, улыбаясь, подошел к нему.
– Гейнц, я в порядке. Ты можешь возвращаться.
Гейнц посмотрел на Вебера, словно не узнал его.
– Фенрих, ты откуда взялся?
– Это вопрос концептуальный, как выражается доктор Абель, чтобы я вот так сходу тебе на него ответил – и это бы не выглядело пошло.
Гейнц улыбнулся.
– Слава Богу. Неужели ты очнулся? Слушай, раз я приехал, то останусь, может, и я пригожусь. Здесь есть, где размяться – чтобы не на глазах?
– Я сейчас переоденусь – и ты меня поваляешь. Чтобы они знали, кто к ним приехал, и перестали считать сопляка корифеем.
– Твой авторитет не пострадает?
– Нет, мы с тобой будем красиво драться. Сам с собой так красиво не подерешься.
Гейнц засмеялся.
– Слава Богу, расколдовали нашу Несмеяну! Сегодня вина напьюсь на радостях! А в небо ящик ракет выпущу!
– Попадешь Богу в зад – будешь потом объясняться.
– Быстро переодевайся, труп. Гаусгоффер все слезы выплакал – как ты умер.
– Хорошо, если бы он пришел. С Клеменсом вместе.
– А это еще кто?
– Местный Парацельс. Но не лысый.
– Разговорился! На ковер, капитан. Я, пока ты переодеваешься, с твоей малышней познакомлюсь.
– Они почти все старше меня, Гейнцек. И некоторые – думаю, старше тебя. Я не знаю.
– Пенсионеры? Инвалиды войн? Участники походов Македонского?
Вебер кивнул и, на ходу глухо скомандовав: «Становись!», скрылся в своей комнате. А перед курсантами предстал Гейнц Хорн.
Вебер переоблачался в кимоно и слушал ораторствующий голос Гейнца. В такие псевдосерьезные разглагольствования Гейнц мог пуститься, только пребывая в очень хорошем расположении духа. Он толковал курсантам, что боевое искусство востока учит человека не просто наносить удары, что это, прежде всего, искусство. И как любое искусство, подчиняется оно законам полной концентрации человека на своем высшем начале и законам благородства и красоты. Что человек, вступивший в смертельную схватку со злом, – это основной предмет осмысления и любования в искусстве, но что и в смертельном поединке следует оставаться человеком, помнить, что ты дитя Бога, а не сатаны. Бой, который мы изучаем, – это не корчи дьявола, не агония таракана, не конвульсии припадочного, а грация и отточенность совершенных, рациональных, концентрированных посылов своей внутренней энергии – для расщепления энергий негативных.
Вебер вышел – он до теории никогда не доходил, ему и в голову это бы не пришло: он учил стойкам, движениям, дыханию, расслаблению и мгновенной концентрации энергии в нужном участке тела, – курсанты слушали Аполлона Бельведерского в кимоно – самозабвенно, и так же смотрели на него. В дверях уже пристроился Гаусгоффер, у него за спиной стояла еще небольшая группа офицеров. Появления Вебера Гаусгоффер никак не ожидал, – глаза его округлились – он едва не бросился к Веберу. Гейнц приглашающим жестом уже принимал Вебера в соучастники представления.
– Раз уж обстоятельства сложились так, что вместо замены я оказался на одном ковре со своим учеником, который семь лет изучает боевые искусства, было бы странно упустить возможность – и не продемонстрировать вам, как примерно это должно смотреться. Поэтому мы начнем с показательного боя, а потом приступим к необходимой для сосредоточения медитации и разминке.
– … Но!.. Капитан… Вебер, ты не здоров! – вставил всё-таки Гаусгоффер.
– Вебер – это птичка феникс, если вы не в курсе, господин генерал, умирать – одна из его вредных привычек, с нею лучше навсегда примириться, – успокоил Гаусгоффера Гейнц. – Он умирает и воскресает одинаково легко, и миг кончины изменяет его к лучшему.
Гейнц это сказал серьезно и так важно, что Вебер рассмеялся на сбитое с толку лицо Гаусгоффера.
Подъем Вебер чувствовал невероятный – никогда в жизни ему так не хотелось сойтись с Гейнцем в настоящей показательной схватке. Вебер чувствовал все возрастающее удивление Гейнца, как его щадящие удары уступают место все более настоящим, что он не покровительствует, начинается настоящее сражение. Конечно, Гейнц сильнее, и, конечно, он возьмет верх, – но Гейнц улыбается с восторгом – он очень доволен Вебером, он не делает решающего выпада, не стремится уложить Вебера одним ударом – он сам хочет посмотреть. Но и у Вебера —еще далеко не предел его возможностей.
Гейнц не стал повергать Вебера на ковер, он просто остановил поединок.
– Дело в нашем случае не в победе, поскольку никаких целей, кроме демонстрации самого боя, мы не преследовали.
Зааплодировали офицеры, курсанты бурно выражали свой восторг. Гейнц наклонился к Веберу и шепнул:
– Фенрих, я не знаю, какой белены ты объелся, но ты молодец. Я скажу сегодня Аланду, что тебя пора всерьез тренировать, пусть он на тебя посмотрит. У тебя все в порядке?
– Да.
– Походи, подыши, отдохни. Потом поработаем вместе, зал большой, а пока я их посажу в медитацию и разомну.
– Спасибо, Гейнцек.
– Чтобы в Корпусе перед Аландом так же дрался или еще лучше. Я вижу, что это было еще не всё. Не всё?
– Не всё.
– Гаусгоффер-то как за тебя переживает. Просто – наседка над золотым яйцом. Удивительно, как ты здесь преображаешься, Аланд прав – самое тебе тут и место.
– …Господа курсанты, а теперь примем позу лотоса, – возвестил Гейнц, приступая к занятию. – Лотос всегда предпочтительнее – он позволяет энергии циркулировать в оптимальном режиме. Сели, а я посмотрю, на что у кого это смахивает. Ясно, на лотос – практически ни у кого. Показываю. Ваши лотосы не должны торчать, как покореженные поганки из-под коряги. Это цветок Абсолютной Красоты. Спина – это стержень, это стебель, потянувшийся к Небесам. Развернутые стопы, господа, улыбаются Небу и Господу, а не подмигивают господину Гаусгофферу любезно заглянувшему в дверь на вас посмотреть. Колени – подставка, они лежат на земле. Если ваша подставка сама никак не определится с местом – то я бы на такую не стал опираться. Стержни ваши тоже вызывают сочувствие – как будто кто-то много раз сломал их и склеил – они торчат неестественными изгибами, дугами, – хоть высчитывай углы кривизны и присваивай каждому вместо имени. Представьте, что вас взяли за волосы и потянули вверх… А колени вросли намертво в землю. А теперь – что касается рук…
Про руки Вебер не стал дослушивать, понимая, что про руки Гейнц выразится еще более художественно, – и едва он вышел в коридор, в зале стены дрогнули от хохота.
– Хорн ваш тоже хорош, – сказал Гаусгоффер. – Ты не рискуешь, Рудольф?
– Нет, господин генерал. Мне стало совсем хорошо, и я не хотел симулировать и обманывать вас.
– Ну, уж как ты симулировал – я видел. Я пойду послушаю вашего Гейнца, он веселый парень. Где вас Аланд таких насобирал?
– Я тоже послушаю. Я вышел, только чтобы объяснить своё присутствие.
Когда они вернулись, Гейнц все пытался усадить курсантов в правильную позу лотоса и, похоже, уже выбивался из сил.
– Ну, дорогие мои, – говорил он, ходя от одного к другому, поправляя то, что сразу же ломалось, едва он отводил руку, – ну совсем доступно объясняю. Вообразите, что поза лотоса – это лично ваш фаллический символ. Что символизирует ваша спина – кривая и сморщенная, и главное, из чего она вырастает? У вас там куча навоза, господа, это совсем не так в природе, наверное, у вас самих – это все-таки не так. Создайте подобие симметрии в сложенных ногах и поднимитесь, господа, примите положение готового к атаке самца, а не столетнего импотента.
Курсанты хохотали и продолжали сражаться со своими суставами, пытались распрямиться – хоть боль гнула и искривляла их спины.
– Весёлый у тебя наставник, Вебер. Похабник чертов.
– Гейнц целомудренный и чистый человек. Он переходит на такой диалект, только впадая в отчаянье.
– Тогда отчаянье его велико.
Гейнц подошел к ним – только головой покачал.
– Безнадёжно, – сказал он. – Если, господин генерал, вы хотите, чтобы они у вас хотя бы через четыре года дрались, их тренировать надо круглосуточно – и самыми иезуитскими способами. Это же колоды какие-то. Если они, подпрыгнув, оторвутся на десять сантиметров от пола – я буду аплодировать. Их надо по шесть часов в день гонять, – с дыханием, растяжкой, – что при вашем расписании вряд ли возможно.
– Приезжайте, Хорн. С вами весело.
– Зато мне не очень. Хорошо, пойду подниму этих криволапых… Встаем, кто еще может это сделать, на две ноги, господа. Да, распутывайте то, что у вас вместо них оказалось. Походите, потрясите ногами. Становись. Проводи разминку, Вебер. Я посмотрю, что они могут, а то плохо с сердцем сейчас станет мне.