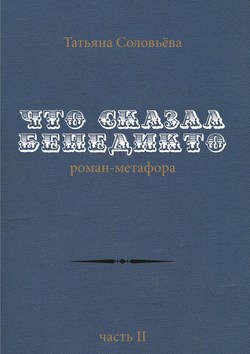Читать книгу Что сказал Бенедикто. Роман-метафора. Часть 2 - Татьяна Витальевна Соловьева - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 27. Наперекор
ОглавлениеТо, что в Корпус они вернулись с Гейнцем, помогало Веберу изображать веселье и беззаботность. Его счастье теперь нужно как-то надёжно скрыть ото всех. Вопрос в том, как это скрыть от Аланда. Конечно, если Аланд сошлет его к Гаусгофферу, – то… что «то» – Вебер не знал. Она замужем, и муж ее – хороший человек. Похоже, что они любят друг друга. Ей двадцать-двадцать один – не больше, замужем недавно. Оба русские. Он в Германии давно, – папа, профессор математики, умер три года назад, – дома ему одному стало скучно, нашел потерянную, одинокую в чужой стране девочку, которой такой добродетельный, умный, серьезный мужчина показался идеальным мужем. Может быть, он и идеальный, но Вебер её никому не отдаст, – хоть рой таких и еще идеальнее её охраняй. Но что делать? Пока надо просто постараться все скрыть, надо её хоть иногда видеть. Если бы он знал, как. Под каким предлогом – он может там появиться? И не выгонит ли она его – появись он там еще раз? Он выдал себя сразу и с головой.
Анечка. Это его новая молитва. Это новая формула его существования. Главное, выдержать первую встречу с Аландом. Куда бы девать свои мысли, чувства? Разгон за своеволие с медитацией он уже примет с радостью. И то, что Гейнц завелся с академией и с сегодняшним удачным боем Вебера, – тоже хорошо.
Мысли бурлят, первый раз в жизни Веберу так хочется любой ценой Аланда обмануть. Ему нужно, чтобы никто этой его скрытой волшебной струны не касался. Никто. Он не знает, что будет, но, тем более, это надо выносить в себе, – сейчас его потрясение огромно и беззащитно. Он, конечно, отступник, он готов даже покинуть Корпус, – он не хочет этого, но если вопрос стоит: Она или Корпус – то, конечно, Она. Он не стал бы разделять эти две святыни, но если Аланд уверен, что это несовместимо, то кто его, Вебера, будет слушать.
Аланд, как поджидал их, попался прямо у гаража. Гейнц, слава Богу, сразу подпорхнул к нему и стал выдавать все свои впечатления о расхлябанном воинстве Гаусгоффера. Аланд его вроде бы слушал, но на Вебера, который только что шины на своей машине не протер, – смотрел пристально, в упор, не сводя глаз, и уходить никуда не собирался.
– Иди-ка сюда, Вебер, – сказал он подозрительно тихо.
Даже Гейнц смолк от этой ничего хорошего не предвещающей интонации.
– О, я тоже хочу посмотреть и послушать, – сразу сообщил Гейнц.
– На что, Гейнц? – уточнил Аланд.
– На то, как вы его будете распекать. Мне надо опыта набираться, если у Гаусгоффера придется работать.
– Не придется, Гейнц. Иди. Спасибо.
Гейнц вздохнул, чуть подмигнул Веберу, сообщил Аланду о фантастических успехах Вебера сегодня на поединке, о том, что Вебера пора серьезно учить, – и только после этого ушел.
Вебер подошел к Аланду, глядя в землю, он старался думать о чем угодно – только не о ней. Пытался покаяться за свою медитацию, как за главный грех, но выходило, что ни о чем он не мог подумать, – думал, даже не думал, а видел и чувствовал только ее: ее запястье, ее глаза, перемены в выражении ее лица. Аланд стоял перед ним и молчал.
– И что, Вебер? – наконец, спросил он.
Вебер посмотрел на него, пытаясь понять, что тот имеет в виду? И понял, что не медитацию. Снова опустил глаза.
– Будешь молчать?
– Что я могу вам ответить?..
– Ну, хоть что-нибудь. Я послушаю.
– Господин генерал, – попробовал сыграть в дурака Вебер, – я не собирался вчера садиться в медитацию. Я думал, что я сам справлюсь с жаром, о котором беспокоился Фердинанд…
– Не вешай мне лапшу на уши, Вебер. Про медитацию еще поговорим. Это особый разговор. И, боюсь, это пока тебе недоступно. Ты прекрасно понимаешь, о чем я с тобой говорю. Точнее, о ком.
– Господин генерал, я случайно оказался у их дома. Николай – интересный математик, вот, я привез посмотреть вам, Карлу, Вильгельму – его доказательство, у него интересный ход мыслей. Он очень приглашал к себе в гости, ему не с кем обсудить те математические проблемы, над которыми он размышляет…
– Твоя любовь к математике, Вебер, меня не интересует в данный момент. И твоя глубочайшая симпатия к Николаю Адлеру – мне не так любопытна, как твои наполеоновские планы относительно его жены, фрау Анны. Я понятно задал и сузил параметры продолжения нашей беседы?
– Господин генерал, она мне понравилась. Но это ничего не значит. Она ведь замужем.
– Но тебя это не останавливает, так?
– Я её видел один раз. Мы с ней даже не говорили…
– Конечно, ты просто признался ей в любви, а говорить тут уже вроде как и не о чем.
– Нет, господин генерал… Господин генерал, я не могу говорить об этом. Я сам ничего не понимаю. У меня такое чувство, что я давно знаю ее. Я же ничего преступного не совершал.
– Вебер, я могу сразу взять тебя за шиворот – и запустить тобой, как мячом, – метров на пятьдесят. Не смей мне лгать. О чем ты только что думал? Тебе процитировать?
– Не надо. Лучше просто вышвырните.
– Вот именно, что ты как раз очень быстро и четко определился, что для тебя предпочтительнее. А мне стоишь – заливаешь. Ты помнишь, что я тебе говорил, когда ты так просил Посвящения. И что ты мне обещал?
– Да.
– А ты не знаешь, что обещания нужно не только давать, но и выполнять?
– Что мне делать, господин генерал?
– Не изворачивайся, Вебер. Это не по-мужски. Ты в шестнадцать лет не захотел блеять бараном – ты вспылил, а сейчас ты завертелся, как угорь на сковородке. Мне отвратительна твоя ложь. Я пока промолчу. Я даю тебе время подумать. Будет лучше – если ты сразу остановишься.
– Это не будет лучше, господин генерал. Это просто медленная смерть. Лучше убейте сразу.
Вебер заставил себя посмотреть Аланду в глаза. Лицо Аланд делал очень сердитое. Но в глубине его глаз было что-то еще. И оно куда важнее – понять бы что.
– Ты хочешь уйти из Корпуса – и время на размышление тебе не нужно. Я тебя правильно понимаю?
– Не совсем. Я не хочу уйти из Корпуса. Но я не смогу от нее отказаться – если вам нужна голая правда. Я просто понимаю, что этого я не смогу. И я не хочу лгать вам и изворачиваться. Для меня это неожиданно, я не знал, что так может быть. Я сам потрясен и раздавлен этой правдой. Но что делать – я не знаю. Пока – не знаю. Может быть, вы знаете лучше меня. Тогда объясните. Но просто ответить вам, что я от нее откажусь, – это и будут просто слова.
– И то, что она любит своего мужа, – ничего не значит?
– Может быть, и значит. Я не могу еще об этом судить.
– Нет, Вебер, в том и дело, что ты рассуждаешь так, словно все давно решено.
– Я пока могу говорить только о том, что я чувствую сейчас. Хорошо, если я ошибаюсь.
Аланд долго смотрел в глаза – и Вебер смотрел ему в глаза. Без бунта, без дерзости – он хотел прочесть ответ, настоящий ответ, в глазах Аланда.
– Как самочувствие? – перевел вдруг разговор Аланд и отвернулся, морщась, словно у него что-то внезапно заболело.
– Все хорошо.
– То, что произошло с тобой в медитации, Вебер, это очень не хорошо. Это будет иметь последствия. Твоя жизнь может прерваться внезапно – в любой момент. Ты будешь долго рассчитываться за этот каприз. Он для тебя – не несчастный случай. Ты не стал бороться со своими слабостями. Тебе удвоят, утроят – утяжелят в десятки раз те испытания, которые ты счел по малодушию непосильными. И ты будешь биться, пока не преодолеешь то, что мешает тебе двигаться дальше. Иначе пути не будет.
– Я готов отказаться от медитации, раз я к ней не способен. Чувствую я себя нормально. Я провел класс единоборств – и все хорошо.
– Физические нагрузки для тебя не так опасны. Волнение куда более убийственно. Не влезь ты последний раз в медитации, куда не надо, Вебер, я бы, может, на многое закрыл глаза. Но ты долго будешь залечивать астральные раны – и это неминуемо повлечет за собой очень нелегкие проблемы выбора для тебя. Это болячки не физического плана, это всё куда глубже и не лечится препаратами. Это лечится очищением. Я не могу сейчас никак ни оправдать, ни принять твои матримониальные намеренья, я не могу их считать ответственным поступком. Ты не прошел еще первую полосу препятствий. Ты не можешь отвечать даже за себя. Я не хочу твоей гибели, я готов тебе помочь, но ты не принимаешь помощи – потому делай, как сочтешь нужным. Только подумай о том, что разрушить ее семью ты по глупости сможешь. А вот сможешь ли ты предложить ей что-то взамен? Назвать женщину своей – это принять за неё ответственность. Ты можешь обещать ей счастливую долгую жизнь с тобой? Что будет с ней – если ты вторгнешься в ее судьбу, поломаешь то, что у нее есть, и твое сердце встанет из-за такой же самонадеянной глупости, которую ты уже совершил? Я бы не стал пока тебе всерьез доверять, твои мысли ненадежны, поступки спонтанны. Ты идешь у эмоций на поводу. На тебя нельзя опереться. Подумай, Вебер, любишь ли ты ее, если ты ей готов предложить как судьбу – себя. Не та же ли это смертельная самонадеянность – опасная уже не только для тебя одного, но и для нее? Для нее брак – это очень серьезно. А ты вообще не понимаешь, что это такое.
Аланд пошел к себе. Вебер прислушался: сердце его немедленно задрожало в груди – стремительно, неумолимо доводя тело до агонии. Вебер переступил пару раз и молча повалился на землю. Аланд оглянулся, вернулся назад, глядя в стекленеющие глаза Вебера, и опустил ему руку на грудь. Молчание в груди Вебера отозвалось мягким скользящим ритмом сердца. Аланд подождал, пока пульс стал вполне нормальным, чтобы Вебер очнулся, и пошел к себе.
Вебер очнулся и увидел удаляющуюся фигуру Аланда. «Ему всё равно», – решил Вебер. То, что в его жизни была не только эта удаляющаяся спина, но и прекрасные дорогие глаза, – это было новым в его сознании, и в этом было его горькое спасение.
Вебер сидел на земле, смотрел на снежную пыль, игриво стелющуюся по плацу, губы его сами собой чему-то отвечали усмешкой. Надо было встать и уйти к себе, но он чувствовал, что даже то, что он сел, – для него предел. Воля его разбита хуже тела, он не мог шелохнуться от нежелания это делать. Это тоже было новое.
Вернуться к себе – неминуемо оказаться перед необходимостью объясняться с Гейнцем. После разговора с Аландом – миновать этого не удастся, а что отвечать Гейнцу? Сказать как есть? Это новое разбирательство, Гейнц такого не поймет никогда. И что бы потом ни было, каким бы ни было примирение, – даже если оно вдруг последует, что маловероятно, – Веберу хватит одного потрясенного предательством взгляда. Они не смогут понять – с ними такого не случалось. Они от природы наделены великим даром постоянства и цельности, их миновало это счастье, за которое плата меньше, чем жизнь, не принимается. О любви никто не печется, за нее не сражаются. Что-то говорилось вскользь о неудачной попытке жениться – еще до Корпуса – Фердинанда Абеля, но он отказался, и больше вопрос не встает. Аланд прав, всегда прав – он, действительно, предупреждал, и настойчиво предупреждал. Но если бы не вывалилась эта папка с лекциями, если бы он не читал лекций, – а он бы не читал их, не окажись он в Корпусе, – не было бы и сегодняшней встречи. Она бы не закончилась приходом в их дом, почти двухчасовым блаженством её присутствия. Получается, что и математика – была только шагом к ней. Анечке. Анечке…
Вебер смотрел на пылящийся снег, поймал подлетевшую снежную змейку, посмотрел, как снежная пыль превратилась на ладони в несколько еле заметных капель. Он улыбался и повторял свою смертельную молитву – Её имя. Разве ему что-то надо от нее? Пусть тысячу раз она счастлива в своем странном браке. Разве он посмеет тревожить ее? Она просто появилась – нельзя сделать так, чтобы этого не было, это уже произошло. И он даже мысленно не скажет, что он не хочет, чтобы то, что случилось, – случилось. Пусть это смешно – то, как он сейчас сидит и не хочет подняться с земли, пусть все идущие мимо награждают его презрительными пинками, – его нет, он исчез. От него осталось ее имя и его поклонение этому имени.
Вебер вспомнил, что в гараже не было машины Абеля и машины Коха – машины у них одинаковые. К воротам кто-то подъехал – и вот-вот пройдет мимо него. И все равно – он не встанет и не будет ни с кем говорить. На их насмешки его сердце остановится, он знает. Не так это и плохо. Он всё равно не предатель. Просто, как всегда, он не может ничего доказать. И не хочет. Вроде бы ничего не случилось – но Аланд знает, что случилось. Глупо. Несколько часов назад он не знал о ней еще ничего. Один миг – и все в его жизни стало иначе.
Рядом с Вебером остановился Кох.
– Рудольф? Странное место дислокации…
Он мягко улыбается и пристально изучает лицо Вебера. Как хорошо, что подошел именно он. Вечно молчащий, он один никогда не вторгался в жизнь Вебера. Он никогда не поучает. Никогда не смеется – он молча приходит на помощь, почти как случайно, всегда мимоходом, – и исчезает, не доводя дела до благодарностей. А его хочется поблагодарить – за его неслыханную деликатность, за его осторожную улыбку, за то, что глаза его так похожи на глаза Аланда. Только без строгости. На него глядя – можно думать, что это Аланд тебя простил. Это выражение и было на дне глаз Аланда. Кох ответил на вопрос – что было в глазах Аланда, кроме досады, но не ответил на вопрос – как это может быть?
– Рудольф, что у тебя опять стряслось? На тебе лица нет. Тебе плохо. Аланд ведь здесь – ты не дошел? Поднимайся. Куда тебя отвести?
– Спасибо, Вильгельм. Никуда. Я тут…
– Тут холодно, Рудольф, у тебя вчера и так был жар. Ты решил разболеться? Поднимайся. Тебя к себе отвести?
– К себе – это к кому? К тебе или ко мне?
– Хочешь ко мне – идем ко мне. Я буду рад такому сумеречному гостю.
Ранние декабрьские сумерки, действительно, совсем сгустились.
– Не трогай меня, Вильгельм. Я посижу немного и скоро уйду сам. Вы не будете об меня в темноте спотыкаться, не беспокойся.
Кох поддел руку Вебера и поднял его.
– Извини, дружочек, я уж позволю себе забрать тебя. Ты у меня редкий гость.
Вебер молча покорился, чувствуя, что от того, что Кох его не оставил, – у него теплеет на сердце. Кох вел его, все так же осторожно улыбаясь и что-то считывая с лица Вебера.
– У меня, правда, через пятнадцать минут отчет у Аланда, но вряд ли это надолго – ты посидишь немного один?
Вебер восхищенно взглянул на Коха, – это единственное, что ему хотелось: побыть одному и там, где его не будут искать.
– Конечно, Вильгельм.
– Так что за беда?
– Аланд сказал молчать.
– Ну, если Аланд сказал… Чаю выпьем?
– Пей, конечно. Я не хочу.
В комнате Коха Вебер, действительно, бывал очень редко, и не дальше дверей. У Коха – хорошо. Если бы у Вебера было пустое жилище – и такая комната, – просторная, с высокими, почти от пола до потолка высокими окнами, – он, наверное, обустроил бы её так же.
В комнате – море книг. В их с Карлом корпусе и классы, и библиотека. Но эти книги – это именно книги Коха. Потрясающе, сколько прочел этот молчаливый человек.
– Ты все это читал?
– Да. Я держу только то, что иногда хочется перечитать – или нужно для работы.
Так и хочется спросить – над чем работает Кох. Официально его вопрос звучит как Время – но кажется, что это ширма, – как вопрос Вебера. Никто не знает, что на самом деле это Бессмертие, а не какие-то там Трансцендентные Небеса, которые его и убили.
Море книг – математика, астрономия, даже астрология. Море оккультных трактатов, философы – от древности до наших дней, весь Шекспир, ряды поэтов, много книг на разных языках. Считается, что Кох знает только английский, немного итальянский и латынь, а тут такие языки, что Вебер и определить не может. Полки с теорией музыки, полки клавиров, тома опер, тома фортепианной музыки – и флейта. Кох играет на флейте? Никогда не слышал. Но лежит в раскрытом футляре и пылью не покрыта. Здесь нет пыли.
В комнате Коха настоящий большой концертный рояль. На рояле вариации Генделя. Кох никогда не исполнял их.
– Ты это будешь играть на рождественском концерте?
– Нет. Просто взял поиграть.
– А что ты играешь на концерте?
– Ничего.
– Почему?
– Потому что его не будет.
– Карл с Гейнцем готовятся вовсю.
– Готовиться полезно даже к тому, чего не будет. Потому что то, что не состоится сейчас, состоится иначе и потом.
Вебер улыбнулся этой его фразе. Не будет сейчас – будет потом. От чая зря отказался – опять познабливает. Очень хочется лечь.
– Что ты стоишь в шинели? Разденься – у меня не холодно. И чаю давай все-таки выпьем.
Вебер стащил тяжелую шинель, повесил.
– Вильгельм, можно я полежу?
– Нужно. Мне моя постель сегодня вряд ли понадобится.
Вебер лег, закинув за голову руки, тело благодарно отозвалось теплой волной, а сердце опять запрыгало, затрепыхалось – что ему не так?
– Вильгельм, почему у меня все не как у людей?
– У тебя?
– Вы все столько лет в Корпусе – и все у вас хорошо. Никто из вас не влюблялся. Ни ты, ни Абель – ну, Абель давно. И сумел это выбросить из головы. Ни Аланд, ни Карл. Ни Гейнц.
Кох улыбнулся.
– Ты влюбился, Рудольф?
– Проболтался.
– И слава Богу.
– Что – слава Богу? Что проболтался?
– Что влюбился.
Вебер усмехнулся.
– И ты не будешь смеяться надо мной?
– Даже не собирался. Когда ты успел?
– Какая разница, Вильгельм? Меня Аланд из Корпуса выгоняет.
– Это он тебе сказал?
– Да.
– Так и сказал?
– Даже обещал зашвырнуть – метров на пятьдесят от ворот.
– Думаю, ты пытался ему соврать, за любовь бы не вышвырнул. И где ты разыскал твою любовь?
– Случайно встретил.
– И сразу сложилось?
– Ничего не сложилось. Вильгельм, я ее один раз видел.
– Тогда, может, ты еще ошибаешься, может, тебе показалось.
– Нет, Вильгельм, не показалось. И Аланд сразу понял, что не показалось – потому и напомнил, что ворота близко. Если я не откажусь. А я не могу отказаться.
– Она тоже сразу проявила симпатию?
– Какую симпатию, Вильгельм? У нее муж. Такой хороший, и тоже – как вы – математик.
– Так она еще и замужем? Интересно. И что, ты собрался ее отбить?
– Ничего я не собрался. Аланд сказал, что я безответственная скотина – что я поломаю ей жизнь и подохну. И с чем она останется? Такому сложно возразить.
– Аланд не мог такого тебе сказать.
– Сказал, Вильгельм. Я вчера доигрался со своей медитацией. Сегодня уже дважды вставало сердце. Раз доктор Клеменс в академии откачал, раз сам тут на плацу воскрес. А Аланд ушел – и не обернулся даже.
– Я ничего не понимаю. Что значит – доигрался в медитации? Что за дважды подох? Вчера что-то случилось? Я слышал, что Абель говорил про твой жар, – и на этом я ушел. Скажи мне внятно, что произошло?
– Ничего, Вильгельм. Аланд мне запретил вчера – а я полез. Хотел просто жар сбить. А сбили меня – и прямо по сердцу. Теперь оно встает, когда ему захочется. Меня вчера предупредили все: и Аланд, и Абель, и даже в Небе мне давали возможность убраться – а я не захотел. Я хотел, чтобы меня убило. А сегодня я встретил её. Аланд сказал, что даже глаза бы закрыл на мои любовные подвиги – но после вчерашнего у меня нет такого права. Я сам себе создал проблемы – и не надо их перекладывать на нее.
– Расстегни китель, покажи грудь.
– Да там два маленьких пятнышка. Ничего интересного. Я сам виноват. Меня и наказали. Вчера я не хотел жить, а сегодня я могу хотеть сколько угодно.
– Покажи.
Вебер показал отметины на груди. Кох покачал головой.
– Да, Вебер. Наворотил ты дел опять. Что ж тебе вчера так жить разонравилось?
– Мне давно разонравилось. Ты не видишь? С тех пор как Фердинанд меня выставил дураком – ни Карл, ни Гейнц простить мне не могут. То есть, конечно, они как бы не сердятся на меня – но в класс единоборств я уже боялся последнее время соваться. Они меня так и зовут мэтром единоборств, изошлись на шутки, что я, сопляк, преподаю в академии и считаю себя непобедимым уже только поэтому. А что я могу сделать? Гейнц сколько лет тренируется, и сейчас он не торчит в академии, как я, целыми днями. Я не просился. Сто лет она была мне нужна – эта академия. Меня никто не спрашивал. Из классов музыки меня давно выгнали – говорят, устал, переутомился, иди поспи. Абель и Аланд так решили – что мне не надо даже присутствовать там. Отовсюду меня вытолкали, Вильгельм, – я терпел, но что-то вчера как сломалось. Гейнц пришел – такого наговорил, что, чувствую, я больше не могу, не хочу все это слушать, что я не могу делать вид, будто мне все равно. Мне не обидно, понимаешь. Мне просто так стало плохо – что сам бы себя разорвал. Я и решил – ну, не стреляться же, пусть там меня и прикончат – там это быстро и надежно. И вроде как не самоубийство все-таки.
– Это хуже самоубийства, Вебер, – это ты большого дурака свалял – и расхлебывать тебе долго. Но придется это сделать. Сейчас Фердинанд приедет – я спрошу у него, что там за компанию организовали.
– Ты что, Вильгельм? Если они узнают, что я тебе жаловался… Ты к Аланду не опоздаешь?
– Это не проблема, с Аландом мы как-нибудь договоримся. Но вот то, что ты сказал, это просто скверно. И я выпал из ситуации. С виду у тебя все было вроде бы хорошо. Сказал бы мне, я бы Карла с Гейнцем давно приструнил. Зачем ты терпел?
– Они правы, Вильгельм. Если бы я не знал, что они правы…
– В чем?
– В том, что смешно – мне преподавать единоборства. Гейнца Аланд сегодня прислал – после того как Гаусгоффер позвонил и сказал, что у меня была остановка сердца. Гейнц так хорошо вел занятие.
– Вебер, ты не видишь, что ты сам себя убиваешь?
– Гейнц хорошо дрался, очень красиво. А на счет убиваешь – Вильгельм, ты сам подумай, что мне остается? Я же не могу без Корпуса, без вас всех – и видеть, как я стал тут изгоем, – это тоже очень больно. Я терпел – пока терпелось, но ничего не меняется, я устал сидеть, как прокаженный в своем лепрозории. Я видеть не могу свою комнату. Я боюсь – когда ко мне кто-то подходит, потому что никто ничего хорошего не скажет. С тех пор как Абель приехал – это все время так. Гейнц, конечно, тогда отошел, он со мной Моцартом занимался – я сам себя успокаивал, внушал себе, что все хорошо. А потом все равно, – чувствую, что я улыбку приклеиваю, когда он надо мной на ковре только что нахохотался – а я перед ним на рояле соловьем разливаюсь. Не знаю, Вильгельм, – я и так, и эдак – и все только хуже и хуже. Когда из класса музыки выставили – причем не на один раз, а насовсем – еще трепыхался, у себя сидел играл, – а потом чувствую, что совсем не могу. Я какой-то нелепый. У меня все не как у людей. И чем больше я пытаюсь терпеть и делать вид, что это можно терпеть, – тем меня глубже затягивает в этот омут. Мне не выбраться. Вильгельм, пойми, я пытался. Но я вижу, что это ни к чему не ведет – только глубже ко дну. Знаешь, уж если Аланд посмотрел, как я завалился, и дальше пошел, то это само за себя говорит.
– Он сначала тебя сердце включил, а потом пошел, Рудольф. Не мели чепухи.
– С чего ты взял?
– Я Аланда давно знаю и знаю, как он к тебе относится.
– Когда я очнулся – он у крыльца уже был. А я ненадолго выключался.
– Ты этого не знаешь – если ты выключался. Не говори о нём так – он о тебе все мозги издумал. О тебе да о Фердинанде.
– Фердинанд вообще как не в Корпусе. Его нет и нет. Я-то, конечно, рад.
– У него много работы. Никуда он не делся.
– Я его перестал понимать – он странный вернулся. С ним тяжело. Ты же знаешь, что он был для меня. Он был для меня всё.
– Всё для тебя – ты сам и Аланд. И ни на себя, ни на Аланда – не возводи напраслины. Аланд тебя очень любит. Больше всех любит.
– Сказал тоже… Что ты меня, как маленького… Он не может меня любить больше всех. Я знаю, кто ему всех дороже.
– И кто?
– Не тяни из меня.
Кох подал Веберу чай, сел рядом.
– Дождешься меня? Я с Аландом должен поговорить.
– Если не гонишь – я полежу у тебя. Здесь хоть никто меня не найдет.
– Ты меня страшно расстроил, Вебер. Сердце твое восстановится. Только не предпринимай ничего. Замри и жди. Ты просто учишься. Трагедии еще даже не начинались. Впереди большая игра. И нас мало, чтобы кем-то жертвовать непонятно ради каких глупостей. Тебе надо, как всем и быстрее всех – раз уж ты позже других родился, – набирать, а не разбазаривать. Аланд очень тобой дорожит, и ему больно видеть, что ты допускаешь такие просчеты. Фердинанд каким был, таким и остался, просто знает и может, больше, чем шесть с половиной лет назад. И как любил тебя, так и любит. Но сколько он сейчас работает, ты не в состоянии даже представить. Что бы он тебе ни говорил, смотри ему в рот и запоминай. Думай, почему он это тебе сказал. Он ничего не скажет просто так. Он весь Корпус на своих плечах волочет, как исполин.
– Исполин… Он похудел и ледяной, как сын снежной королевы. Я боюсь, когда он меня касается – холод от него за версту.
– Зато тебе жарко. Что морщишься? Опять плохо?
– Я не морщусь. Аланд сказал, что теперь все время так будет – надо привыкать. Иди, Вильгельм. Аланд не любит, когда к нему опаздывают. Спасибо, что пригрел. Только выболтал я тебе то, чего не следовало. Извини.
Кох поднялся. Вебер смотрел на него и боролся с побежавшим холодком и дрожью по телу. Чувствовал, что сейчас – едва Кох уйдет – он снова отключится, и подумал, что навсегда, и что Кох – последний, кого он видит.
– Вильгельм, а если бы Аланд меня выгнал, а ты случайно встретил бы меня в городе, ты бы не поздоровался со мной?
– Почему?
– Ну, я же, получается, отступник, предатель.
– Поздоровался бы, Вебер, и в лоб тебе дал. Потому что ты не предатель, ты расти не хочешь.
Кох вышел. Вебер усмехнулся, вжимаясь в подушку затылком и отдаваясь уже откровенной агонии.
Почему ему так важно знать, считает ли и Кох его полным ничтожеством? Не считает. От этого почему-то становится легче.
Тяжело умирать. Разум всё понимает, так лучше, а душа разрывается на части – до чего ей не хочется, чтобы все было именно так. И тело – не шестнадцатилетнего больного мальчика, а сильное мужское тело, зачем-то выпестованное природой, годами огромных усилий, оно тоже оказалось ни зачем. Как он был рад себе, когда склонился к Её волосам и почувствовал всю свою мощь, готовую служить защитой ее хрупкости. Как эта сила потом ликовала и бушевала в нем, когда он весело сошелся с Гейнцем на ковре. Всё в нем было хорошо, на месте, и радость жизни была такой полной. Ликовали эмоции, бурлили силы, как в кипящем котле. И все-таки он умирает куда богаче, чем был еще вчера, потому что у него перед глазами стоит Она. Анечка.
Вебер открыл глаза. Он в комнате Вильгельма. Рядом Абель. Вильгельма нет.
Абель улыбается мимолетно, лицо встревожено не на шутку. Но улыбка берет верх.
– Все нормально. Стучит.
Вебер чувствует, что стучит. Отворачиваться от Фердинанда не хочется. По этой дорогой и ненавистной улыбке он все равно очень скучает.
Все кошмары начались с возвращением Абеля. Как бы Вильгельм его ни восхвалял – Фердинанд не понятен. В самом деле, ведет себя, как дервиш, – непредсказуемость и эпатаж, и не хватает Веберу никакой мудрости, чтобы его понять. Но кошмары кошмарами, а не будь их, вчера бы он между лекциями и единоборствами не отправился, куда глаза глядят, и не встретил бы Её. И Вебер снова смотрит на Фердинанда. Тот уже разложил – когда успел? – свой экстренный чемоданчик, вводит в плечо иглу – щиплет. Но, может, он хоть вынырнет еще на время из своего омута. И ему все равно, кто и что ему запретит или разрешит, он поедет к ней. Раз он в любую минуту может умереть, он совершенно свободен от всех своих обязательств. Нет смысла играть в прежние игры. Ему не для чего себя заставлять делать то, что бессмысленно.
Он может смотреть Фердинанду в лицо – так, как это было семь лет назад, и может видеть в нем только то, что ему нравится видеть в этом человеке.
– Сейчас, будет легче, и я тебя переведу к себе.
Вебер вчера еще, час назад бы еще сказал, не раздумывая «нет» и «не надо». А теперь можно представить, что только завтра они пойдут сражаться с Кощеем. Абель будет опять бесподобен в своем гневе, своей отчаянной храбрости. А Вебер будет валять дурака и стонать на столе, не чувствуя никакой особенной боли, одним глазом поглядывая за молниями на лице Фердинанда. Будет слушать его негромкий голос, про себя хохотать над тем, как он дерзит и похабничает над словами конвоиров-охранников.
Вебер не чувствовал, что улыбается он на самом деле.
– Наломал вчера дров, Вебер, молодец – сказать нечего.
Фердинанд вроде как отчитывает его, но в голосе что-то мягкое, как на дне глаз у Аланда и у Вильгельма.
– За что тебе от Аланда-то влетело?
– Просто так.
– Если бы ты только знал, фенрих, как я люблю, когда ты обижаешься на всех, а на меня – особенно.
– Я не обижаюсь.
– Можешь мне не рассказывать. Вот уж что-что, а твой обиженный вид ни с чем не спутаешь – чучело с посмертной маской Франкенштейна.
– Сам ты чучело.
– Уже лучше. А теперь, фенрих, раз уж ты решил осваивать азы бессмертия на практике при помощи регулярных упражнений, учиться будем, как оживать, а еще лучше отложить очередную агонию до более благоприятных обстоятельств, если вдруг в данный момент умирать тебе по каким-то причинам неудобно. Сейчас чувствуешь, что сердце еще колотится куда быстрее, чем это принято у нормальных людей?
– Отстань от меня. Тебе бы только ёрничать.
– Ты не прав. Сейчас я говорю о том, что приступ можно остановить, предотвратить. Сядь и делай, что тебе говорят, олух.
Вебер кое-как сел, еле справляясь с головокружением.
– А теперь – ты медленно и очень глубоко носом вдыхаешь полную грудь воздуха. Можно начинать. И резко – полный выдох: ртом и носом.
Вебер резко выдохнул – и Абель именно на выдохе зажал ему и нос, и рот ладонью, так что у Вебера заложило уши. Но туман стал быстро рассеиваться, и сердце почти сразу начало успокаиваться и вернулось в нормальный ритм.
– Лучше?
– Да.
– Сам себе, может, постесняешься рот и нос зажимать, но даже пара резких выдохов помогает. Вульгарно выражаясь, срединный и блуждающий нерв управляют водителем ритма и резким выдохом ты как бы вправляешь их на место. Усвоил?
– Да, спасибо, доктор Абель.
– Абель… И сразу – Абель.
– Когда это пройдет?
– Когда поумнеешь.
– С мозгами это не связано.
– Твое существование пока вообще с мозгами не связано, Рудольф, отсюда и все проблемы. За что от Аланда влетело?
– Это не твое дело. Он сказал не говорить.
– Значит, Вильгельму ты сказал, а мне не доверяешь?
– Я не сказал, а проболтался. Надеюсь, что он промолчит. А ты в последнее время сам не знаешь, кому и что скажешь. У меня нет желания с тобой откровенничать.
– Фенрих, ты злился на Гейнца с Карлом за то, что они никак не простят тебе твоих, в общем-то, самых обыкновенных мыслей о твоем возможном над ними превосходстве. Но ты-то чем от них отличаешься? Я над тобой не пошутил больше ни разу – но ты постоянно вменяешь мне в вину то, что один раз я это сделал, – словно я травлю тебя ежедневно. Ты сам такой, ты не хочешь это признать? Я не хочу, чтоб вы с ними сшиблись лбами. Но пока вы такие – это неизбежно.
– Мне Аланда хватит в качестве наставника. Я пойду к себе.
– Не стоит. Я предоставляю тебе на время политическое убежище. У меня ты ляжешь и проспишь спокойно. Пойдешь к себе – сцепишься с Гейнцем, и никто не знает, чем это закончится. Не советую, ты нестабилен. Нужно время, чтобы тело твое успокоилось от потрясения.
– Я пойду к себе. Работай, как работал. Ты же страшно загружен. Я сам как-нибудь.
– Ты слабоват для такой ситуации.
– Какой ситуации, Абель?
– Я знаю, что ты встретил свою любовь. И потому спрашиваю, что сказал тебе Аланд.
– Тогда, что сказал Аланд, ты тоже, конечно, знаешь. Тебя еще не хватает. Мне никто не нужен: ни ты, ни Аланд, сам разберусь. Ненавижу ваше всезнание. Вы хотите забрать у меня даже свободу просто думать о ней. Я ни к кому не лезу, ничего не прошу. Мне надоело, что вы вмешиваетесь в мою жизнь. Ты можешь понять это?
Вебер встал. Абель смотрел не в глаза. Грустно усмехаясь, он смотрел на грудь Вебера, где сердце уже начинало исполнять свой бешеный танец.
– Ты никуда не пойдешь. Лучше ляг сам.
– А то – что? В рожу дашь?
– Дам, фенрих, надо будет – дам и, как ты выразился, в рожу. Аланда ты понял неверно. Он говорил не о том, что ты не имеешь права на любовь, а о том, что ты к этому шагу не готов. Это не одно и то же.
– Нет. Он сказал, что предупреждал семь лет назад, и я обещал. А обещания надо выполнять.
– Тогда он подлец…
– Кто?
– Аланд. Хорошо. Иди, обнимись с Гейнцем. Аланд у меня попляшет…
– Ты опять начал юродствовать, Абель? Я пошел.
– Вдохни и выдохни, а то до ворот не дойдёшь.
Вебер пристально посмотрел на Абеля – он, в самом деле, не собирался идти к себе, он хотел уехать к Адлерам. Даже не думал об этом, – это было принятое решение – и никак он его не транслировал.
«Невыносимые люди… Как вы мне все, душеведы чертовы, надоели!»
Вебер переводил дыхание. Но чувствовал, что разволновался – и сердце его заводит. Абель взял его за плечо своей ледяной рукой, и железно развернул к себе.
– Не дури, Вебер.
– Убери руку. Собой займись – тебя как из холодильника достали. Сам на свою Анну-Марию до сих пор исходишься, а меня учишь, святой Иосиф нашелся…
– Это не твоего ума дело. Тебе этого не понять.
– А тебе – понять, что происходит со мной? Отцепись, Абель.
Абель коротко ударил Вебера по грудине, все так же пристально смотря на грудь Вебера.
– Это тоже может помочь. Вдыхай долго и медленно. Ты завалишься, дурак. И мне опять нестись тебя вытягивать. У меня нет времени за тобой по городу бегать. На ночь полно работы.
– Иди, работай. Я без твоей помощи – хотя бы подышу.
– Доиграешься, Вебер.
– И слава Богу. Я понял, что иначе от вас не отвяжешься. Отец Адриан был прав – бесы вы. Я к Гаусгофферу переведусь. Завтра же попрошусь.
– Лучше прямо сегодня. А то вдруг завтра не наступит? Так в академиках и не походишь. Жениться тоже прямо завтра будешь?
– Я тебя ненавижу, Абель.
– Дело не во мне, фенрих. Ты никак не поймёшь, с чем ты играешь.
– Это тоже мое дело – жить мне или умереть. Я один ее взгляд променяю на всю вашу богадельню.
– Скажи это Гейнцу.
– Скажу.
– Рудольф, в следующей медитации тебе выбьет мозги. Это я к слову. Имей в виду. Если ты еще раз попытаешься поступить наперекор.
– Обязательно, Абель. И это тоже не твое дело. Не строй из себя гуру. Мне плевать, что ты шесть лет делал на востоке. Лучше бы ты там и остался. Иди скорее, режь свои трупы и не забудь сам поспать в холодильнике, ты без него быстро перегреваешься. На себя посмотри – ты стал сам, как Кощей. И физиономия твоя бледная – тоже не смотрится пышущей здоровьем. Я сам. Ясно? Сам!
Абель все так же грустно усмехнулся и начал укладывать свой экстренный чемоданчик. Вебер накинул шинель и быстро пошел к гаражу.
Машина Вебера вылетела за ворота, он погнал к дому Адлеров – понятия не имея, зачем он это делает. Ясно, что в такой поздний час он к Адлерам не пойдет – это было бы странно. Он остановил машину у ворот, долго смотрел на свет в их окнах.
Сам стал хуже Гейнца – чего он только не наговорил Абелю. И завелся-то от его «подлеца» в адрес Аланда. Едва почувствовал снова это абелевское юродство. Почему он так боится этих интонаций Абеля? Словно тот, в самом деле, не дурачит, не ёрничает, а говорит что-то страшнее и больше, чем правда. А судя по всему, провал у Коха – был серьезнее и длительнее, чем днем, чем на плацу после разговора с Аландом. Времени почти полночь, он провалялся не один час – и вот поблагодарил Абеля за спасение. Наговорил-то! Даже в холодильник отправил, даже над его нездоровьем не забыл поглумиться. Даже Анну-Марию приплёл, ничего не забыл. Стоило бедному Абелю время тратить. Надо уходить. Надо уходить. Только Гаусгоффер, конечно, еще одного фокуса Вебера с тренировкой бессмертия не вынесет – спишет по всей форме, Клеменс отрапортует – остановки сердца. Объясняй на комиссии про медитацию, – в психлечебницу отправят – без третьей самовольной медитации.
Вебер поехал обратно, уже никуда не торопясь. Съехал на дорогу к озеру, откинулся к спинке кресла, прикрыл глаза. Как он загнал себя. К Аланду поехать? У него не горел свет, когда Вебер уезжал. В зале? Музицировал с Карлом и с Гейнцем? Чушь. Машины Аланда в гараже не было. И машины Коха тоже. Надо вернуться в Корпус, пока Аланд сюда не приехал – и не надавал уже как следует.
А в самом деле, что с Абелем? Он не похож на себя, откуда эта гонка? Откуда это всепрощенье по отношению к нему у Аланда, у Коха? Откуда эта бледность и худоба – Абель уезжал богатырем. Доктор доктором – но в его чуть сутулой спине всегда присутствовала огромная мощь. Сейчас – ни на разминках, ни в зале – он не появляется. Если он болен на самом деле, он не признается. У него всегда улыбка и все хорошо. Что Вебер наговорил ему и зачем? Что с ним самим происходит? Откуда эта исступленность и злость? Откуда эта жестокость? Он сам хуже Гейнца и Карла – жестокость тех просто детский лепет. Гейнц вчера не стал его валять по ковру перед курсантами, он радовался успеху Вебера, радовался его шуткам. Может, Вебер сам не видит себя и дело только в нем самом? О чем он спорит со всеми?
Ну, приехал он к ней – и что дальше? Ему есть что ей сказать? Это было бы почище юродства Абеля. Лучше сразу остановиться. Что на что он меняет? Что он может Ей предложить? Это все пустые слова и эмоции. Можно смотреть на нее в своем «экране» воображения – можно умереть от любви, но говорить пока не о чем.
Вебер выехал на дорогу и поехал к Корпусу.
Поставил машину. Прошел к себе в комнату, закрылся. Бросил шинель в кресло, скинул сапоги – лег и заснул.
Утром опять его вместо пробежки – в зал. Аланд молчит и смотрит устало. Абель приехал – улыбнулся всем, отсалютовал, что-то сказал Аланду почти на ходу и скрылся в своем корпусе. Аланд посмотрел минут пять на то, как занимается Вебер, и, так ни слова и не сказав, ушел.
Вебер долго перерывал на столе бумаги, искал свои лекции – и не нашел. Подумал, что оставил их вчера в машине. В машине тоже нет. Поехал на лекции раньше времени, – посидит в библиотеке, подумает, набросает план – он и так все помнит. Оставил у Адлеров? Это хорошо. Это повод вернуться.
Гаусгоффер подошел сам, интересуется здоровьем Вебера, смотрит придирчиво.
– Может, поедешь домой, Вебер?
«Домой!» Словно у него есть дом.
– Я бы остался лучше здесь, господин генерал.
– Не хочешь поговорить, Вебер, начистоту?
– Пока это преждевременно, господин генерал. Пока мне нечего вам сказать.
– Не возражаешь, если я посижу у тебя на лекции?
– Это ваше право, господин генерал.
– Я приду.
Не сказать, что Вебера это обрадовало, сегодня – когда он чувствует себя как-то скверно, пришел даже без текста лекции (в бумажки он никогда и не смотрел, но таков порядок – лекция должна лежать на кафедре.)
Сердце подозрительно дрожало. Около аудитории Веберу пришлось постоять с минуту в коридоре, переводя дыхание. Даже дал себе кулаком в грудь, даже вдохнул и выдохнул в крепко прижатую ко рту ладонь. Вроде бы ничего. Начнет читать – успокоится.
Гаусгоффер – шутник. Сидит в последнем ряду – с Клеменсом, тихо о чем-то переговариваются.
Вебер заговорил, мел зачертил по доске. Мысль пытается уйти – в голове чего только нет, то Она, то Абель, то Кох, то Аланд, – всё, кроме того, о чем он продолжает почему-то вслух говорить.
Он начинает замирать на полуслове. Потом опять говорит – и замолкает. Чувствует вопросительные взгляды курсантов, не понимающих, почему он не договорил не то, что фразу – слово. Угораздило именно сегодня прийти Гаусгоффера.
Вебер смотрит в последний ряд – рука сама опускается. Падает, разлетается на куски мел. Прямо меловой пылью Вебер трет вдруг взмокший лоб, подбородок сам тянется вверх – свет ускользает. Последнее, что он видит, – как Клеменс и Гаусгоффер сорвались со своих мест, как вскакивают перепуганные курсанты. Вебер пытается переступить, чтоб сохранить равновесие, и снова чувствует, как тяжелое тело сваливается с него – оно падает вниз, а он взмывает вверх. Видит свое тело, нелепо вытянутое на полу, вокруг люди, трясут и треплют это тело, зовут его именем Вебера, а Вебер – уже не там. И слава Богу, пусть твоя последняя лекция будет твоим последним позором.
Откуда-то в этой толпе появляются Аланд и Абель. Голос Аланда Вебер слышит – и голос тянет его назад. Вебера поднимают, он, как в садок, занырнул в себя, он уже чувствует свое онемевшее тело, он может открыть глаза. Вебер пытается сесть, оттолкнуть чужие руки – не может не морщиться от отвращения к себе. Абель усмехается грустно и не зло – за его взгляд можно уцепиться.
«Выведи меня отсюда, Фердинанд. Спаси меня».
Абель серьезно что-то говорит коллеге Клеменсу, поднимает Вебера, под руку выводит из аудитории. Аланд выходит с Гаусгоффером, генералы тихо, но экспрессивно вполголоса переговариваются. О чем – Вебер не понимает, в голове шум. В глазах волнами, то все застилает туманом, то проясняется. Грудь качает воздух, как насос, но воздуха не хватает. Абель опускает Вебера в машину Аланда, на заднее сиденье, впереди – за руль – садится Аланд, Абель усаживается рядом с Вебером.
– Молодец, Вебер, – сказал Аланд. – Теперь Гаусгоффер будет трубить, как слон, что я тебя истязаю, что я довожу своих учеников до смерти. Спасибо, мой дорогой. Это все, что я для тебя сделал, разумеется. Это я тебя сегодня вытолкал. На цепь посажу, недоумок.
Вебер опускает голову, чувствуя все нарастающую гонку в груди, – что он с собой сделал?
– Зачем вы меня втащили в тело? – прошептал он. – Что вы мне умереть не даёте?
– В Корпусе – пожалуйста. А здесь – и так разговоров слишком много. Сейчас приедем – и продолжай, – Аланд не хочет или не может скрыть волнение, досаду.
– Вебер, я сказал тебе, поступай, как хочешь. Но как ты смеешь порочить всё, что тебя делало человеком эти годы? Неужели ты не понимаешь, что ты решаешь за всех, а у тебя нет мозгов даже с собой разобраться?! Так не поступают, Вебер. Что ты доказывал? Кому и зачем? До чего я ненавижу в вас предательство, Вебер! Если бы ты только знал! А ты что улыбаешься, Абель? Тебе это нравится?
– Да. Забавный переполох.
Аланд прищурился и сжал губы.
– Корпус ублюдков, – сказал Аланд.
– Вам виднее, господин Великий адепт, – улыбнулся Абель и прислонил падающую голову Вебера к своему плечу.
Аланд врезал по тормозам, подошел к задней дверце, открыл ее и вышвырнул Абеля на тротуар.
– На гитару деньги есть – или подать?
– Есть, господин Аланд. Не беспокойтесь. Сами управитесь с вашей сворой?
– Без твоей помощи.
– Ошибаетесь, господин великий адепт. Ничего у вас не выйдет. Гейнцеку привет! О, Вебер опять поехал… Лупите его в грудь, сеньор Аландо, он уже не в себе.
– Что ты сказал?
– У вас сын умирает, сеньор Аландо, ладно уж – не до разговоров. Еще увидимся. Чемоданчик мой у вас остается – присмотрите. Аорту-то сами зашунтируете?
– У тебя снова бред, Абель?
– Это у вас бред, мой дорогой отец. Увидимся. Надолго не прощаюсь. Дайте мне ключи от машины Вебера, я вернусь – до академии ближе.
– Обойдешься.
– Как прикажете, учитель. У Вебера – полный стоп. Может, обратите внимание на это печальное обстоятельство? Или хоть меня подпустите, доктор Аланд?
Аланд, тяжело опираясь на машину, прислонился к ней спиной.
– Стареете, генерал. Нервы. Сердце. А ведь истинные адепты не болеют. Истинные врачи спасают умирающего. Истинные отцы – любят своих сыновей. А истинный генерал ублюдочного Корпуса – сам ублюдок. Как вас всех чистит-то – любо-дорого посмотреть! Значит, и вы не безгрешны, господин адепт. Торопитесь, там ваша голодная свора уже топчется у ворот от нетерпения.
Абель все-таки втиснулся обратно в машину – он приводил в сознание Вебера, пока Аланд, сам не понимая, что с ним творится, пытался прийти в себя.
Такого приступа ярости на Фердинанда и полного бессилия – он от себя не ожидал.
Абель выбрался из машины, лучезарно улыбаясь.
– Вам помочь, господин генерал? У вас что-то лицо посерело.
– Уйди, Абель.
– Хорошо. Пока, Вебер. Слушайся старших – и будешь умный мальчик. Анечке привет от меня. Или поцелуй – как захочешь.
Абель сунул руки в карманы и пошел по тротуару прочь. Кажется, он даже насвистывал. Подцепил носком ботинка кусочек льда и, гоня его перед собой, как мяч, продолжал уходить.
– Куда он, господин генерал? – забеспокоился очнувшийся Вебер.
Аланд молча сел в машину и поехал в Корпус.
Гейнц встретил их у ворот.
– Что-то фенрих рано вернулся! – весело улыбался он. – Опять не заладилось?
– Можно я пойду к себе, господин генерал? – тихо спросил Вебер. – Мне надо лечь.
– Ляжешь у меня. Тебя нельзя оставаться пока одному. Дай мне сюда деньги, что дал тебе вчера Гаусгоффер.
– Гаусгоффер дал тебе деньги? – Гейнц готов был расхохотаться. – И много? Ничего себе! Вебер, это за что он тебя так лихо приплачивает? Ты ему понравился?
От вчерашнего доброго друга опять ничего не осталось – Гейнц был циничен и зол.
– За клоунаду ему приплачивают, Гейнц, – ответил Аланд, пресекая готовый снова вырваться наружу смех Гейнца.
– А то я уж подумал… Ты в последние дни – то возбужден чрезмерно, то прямо как в воду опущен. Странный такой, Вебер!.. – Гейнц всё-таки засмеялся. – Господин генерал, я хотел доложить, что у нас в Корпусе – гость. Ждет Вебера. Это еще один твой поклонник, Вебер? Официальный повод прибытия, господин генерал, доставка забытых вчера в гостях у этого господина лекций нашего Вебера. Господин Адлер общается с Карлом на предмет теоретических проблем математики. Гость расположился пока в столовой, Карл поит его чаем. Гость проявляет о Корпусе исключительную осведомленность – рассказал Карлу о нем больше, чем знал о себе сам Карл, включая его доказательства теорем.
Аланд обернулся к Веберу.
– Значит, ты сегодня импровизировал, а пришли проверить?
– Я знаю лекции, мне эти бумажки не нужны…
– Что, фенрих, забыл в гостях тетрадку с домашней работой?
Гейнц все смеялся – от его смеха было жутко.
– Ты втягиваешь меня в неприятности, Вебер. Я не ожидал от тебя этого, – сказал Аланд. – На Гаусгоффера больше не рассчитывай. Он проблем не хочет, – сказал, что в другой раз ты появишься в академии – только через заключение медицинской комиссии, которого ты не получишь. Зато я не удивлюсь, если твой Адлер не последний, кто еще заявится в Корпус без приглашения. Так не поступают, Вебер. То, что Корпус для тебя не имеет больше значения, – не означает, что он вообще его не имеет. И уходить, напуская на место, где ты провел свои не худшие годы в жизни, грязь – это не по-человечески.
– Уходить? Господин генерал, я не понимаю, – Гейнц вроде бы продолжал улыбаться. – Что он натворил? Какую еще грязь, фенрих?
– Ничего особенного, Гейнц. У Вебера изменились планы на жизнь – и с пребыванием в Корпусе они больше не связаны. Иди в мой кабинет, Вебер, и ляг у меня на диване. Я сейчас приду, тебе нельзя оставаться одному.
Аланд пошел к столовой.
– Вебер? Я не понял – ты уходишь из Корпуса? – спросил Гейнц.
– Да, – Вебер старался отвечать спокойно.
– Что – да? Почему?
– Потому что вы мне осточертели все. И ты больше всех, Гейнц. Я устал слушать твои похабные намеки, твое ёрничанье, я тоже человек и хочу, чтобы меня им считали.
– Ты не человек, Вебер, ты предатель. А я бы никогда о тебе этого не подумал. Вебер, но Корпус нельзя просто так оставить.
– А я наелся вашим Корпусом. Я хочу жить – как простой человек. Говорить с тем, с кем хочу говорить, видеть того, кого я хочу видеть.
– Ты предатель, Вебер, – получается, что ты просто предатель и негодяй.
Вебер не находил слов.
– Гейнц, не старайся, я знаю, ты хочешь, чтобы я вцепился в тебя. А я сейчас должен быть в порядке. Если Гаусгоффер устроит скандал, то я должен сам отвечать на все вопросы.
– Я сказал тебе, что ты негодяй и предатель. Ты хочешь сделать вид, что это ничего не значит? Может, это просто твоё имя и фамилия? Тогда можно так.
Гейнц свалил Вебера ударом в лицо. Вебер быстро вскочил.
– Только за проваленную лекцию Аланд из Корпуса не выгонит – здесь что-то еще… – наступал Гейнц. – Почему ты этому бородатому вывалил вчера о Корпусе все? Почему доказательствами Карла распоряжался ты? Почему ты так хотел понравиться этому Адлеру, что ты у него вообще делал?!
– Гейнц, – Вебер зажимал рассеченную скулу, проклятые руки дорожали, и Гейнц усмехался именно на эту дрожь в руках Вебера. – Гейнц… Аланд вам сам всё скажет…
– Вебер, я убью тебя своей рукой, если ты это сделаешь.
– Я не собираюсь подчиняться тебе.
– Вебер, даже я потратил на тебя столько лет… Я не говорю про Аланда. Как тебя понимать?
– Я был дурак, я ничего в жизни не знал, Гейнц. Я встретил женщину… И я не хочу больше ломать комедию. Я хочу жить сам. Своей жизнью, а не твоими припадками – то ненависти, то великой дружбы. Ты не понимаешь, что такое встретить свою любовь.
– Это не твоя любовь, это жена Адлера, если я правильно понимаю. Ты всё сказал?
– Всё. Раз ты так печешься о Корпусе и об Аланде, то лучше бы ты доверил суд ему. Не потому что я тебя боюсь – сам давно дал бы тебе в рожу. Но если Гаусгоффер устроит дознание, то лучше будет, если я сам опровергну его домыслы, чем Аланд будет объясняться, почему ты меня убил.
– Какая забота о Корпусе, Вебер! А может, твои руки дрожат не от страха за Корпус, а именно потому, что ты понимаешь, что я тебя убью? Это хорошо. Почему именно ты оказался предателем, Вебер?
Руки Вебера сами сжались в кулаки, он с глухим рычанием бросился на Гейнца и отлетел на землю, перестав понимать, кто он такой. От него осталась одна набитая болью оболочка. Глаза его бессмысленно моргали и стекленели.
Аланд выбежал на плац один – доверив Адлера Клемпереру, оставив их за их разговором.
Вебер еще вздрагивал всем телом на плацу. Гейнц с прищуром смотрел на него, мертвея от страшного понимания того, что он сделал. Этот удар знали в Корпусе Аланд, Кох, Абель, и – совсем недавно – Аланд показал это Гейнцу, – этот удар запрещен. Только на случай самого крайнего форс-мажора и неравной обороны.
Это Аланд мог рассчитать силу энергетического удара, а Гейнц еще не мог. Он бил на поражение. Вебер умрет в несколько минут, – потому что при полном отсутствии внешних повреждений – его внутренности истекают кровью. Сознание Вебера сейчас переживает такой коллапс, как рождение звезды, он просто взорван болью изнутри.
Аланд присел перед Вебером, оглянулся на Гейнца, – на лице полная пустота – во взгляде и в выражении.
– Ты молодец, Гейнцек. Ты его убил.
Ворота Корпуса открылись – появился Абель, он подхватил Вебера на руки и быстро понёс его не в операционную, а к машине, уложил Вебера на заднем сидении, чуть задержался над ним. Аланд шел следом.
– Фердинанд, ты его не довезешь. Попытаемся здесь – шансов мало – кровопотеря.
– Не беспокойтесь, маэстро. Я остановил ему сердце. Кровопотеря прекращена.
Абель развернул машину, едва не сбив Аланда, и не выехал, а вылетел за ворота, – как музыке, усмехаясь пронзительному визгу его железного коня на поворотах.
– Не уходи, Вебер. Поболтайся поблизости. Ничего. Вытянем. Сейчас что-нибудь придумаем. Продержись несколько часов. Шить много – но я постараюсь успеть… Гейнц – слава Богу – сопляк, хоть и мнит себя… Вебер, просто слушай меня. Держись за мой голос. Нельзя уходить. Все не просто так. На двоих у нас с тобой еще хватит жизни, повиси на мне. Пусть их потрясёт. Я им тебя не отдам. Для них ты сегодня умер.