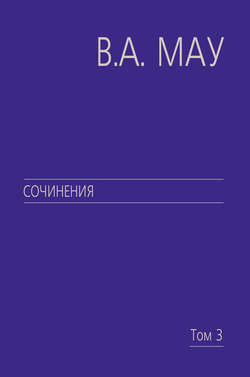Читать книгу Сочинения. Том 3. Великие революции. От Кромвеля до Путина - В. А. Мау - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Введение
ОглавлениеБурные события, охватившие в конце 80-х – начале 90-х годов XX в. страны Восточной Европы и Советский Союз, поставили много непростых вопросов перед специалистами по теории революций. С одной стороны, резкая смена политических режимов, масштабный и системный характер осуществляемых преобразований, а в ряде случаев и большая роль народных движений «снизу» в происходящих событиях однозначно указывали, что эти страны переживают революционные потрясения. С другой стороны, наблюдаемый кризис совершенно не укладывался в принятые теории революции. В теории господствовали взгляды на революцию как на феномен отсталых, неразвитых обществ, характерный для аграрно-бюрократических монархий прошлого и современных государств «третьего мира». В то же время многие известные исследователи революций вслед за Самуэлем Хантингтоном полагали, что как западные демократии, так и коммунистические режимы обладают существенным потенциалом политической стабильности и не подвержены революционным катаклизмам (Huntington, 1968).
Вот почему даже тогда, когда революционный характер преобразований в коммунистическом мире был достаточно очевиден (а в Советском Союзе само политическое руководство заговорило об этом уже в 1987 г.), специалисты по теории революции оставались приверженными традиционным представлениям об устойчивости этих режимов[5].
Для адекватного анализа феномена современных революционных преобразований недостаточно признания того, что «Россия, а также прилегающие к ней государства бывшего СССР и Восточной Европы прошли через фундаментальные политические, экономические и социальные преобразования, сопоставимые по масштабу последствий лишь с Великой французской и большевистской революциями» (McFaul, 1996. Р. 169). Невозможно просто вписать новые примеры революционных катаклизмов в имеющуюся теоретическую схему, поскольку она не приспособлена к объяснению событий, происходящих в достаточно развитых, высокоурбанизированных, высокообразованных обществах. В свете нового опыта революций сами представления о предмете, существующие на данный момент в науке, нуждаются в серьезном пересмотре. Одна из задач этой книги – прояснить хотя бы некоторые аспекты взаимосвязи революционного опыта конца 80-х – 90-х годов XX в. и теоретических представлений о феномене революции.
Во-первых, мы ограничили нашу задачу только опытом России, не включив в анализ ни другие бывшие республики Советского Союза, ни страны Восточной Европы. Нам представляется, что в каждом случае необходим особый анализ, раскрывающий как характер и степень революционности преобразований, так и влияние опыта данной страны на теоретические представления о предмете, что невозможно осуществить в рамках одного исследования. Собственно, подобные работы уже стали появляться применительно, например, к Польше, где социальный характер революции как движения «снизу» выявился раньше всего и в наиболее полной мере.
Во-вторых, мы, безусловно, не ставили своей целью пересмотр всей совокупности существующих теоретических взглядов на революцию. Эти взгляды столь разнообразны и многоаспектны, что подобная задача в принципе представляется невыполнимой. Нас интересовали в первую очередь те вопросы теории революции, которые необходимо подвергнуть анализу в свете российского опыта, а именно где современные революционные преобразования позволяют привести дополнительные существенные аргументы в пользу определенных взглядов и позиций либо, напротив, вступают с ними в явное противоречие.
Таким образом, первая задача данного исследования состоит в том, чтобы показать, что может дать опыт еще одной крупной революции для дальнейшего развития теории революции, над какими вопросами этой теории он заставляет еще раз задуматься, какие проблемы переосмыслить.
Однако осознать революционный характер нынешних перемен в нашей стране интересно не только с точки зрения развития теории. Это принципиально важно для понимания происходящего в самой России.
С неадекватным восприятием характера российских событий связаны две проблемы. Одна из них состоит в том, что эти события часто пытаются объяснить в логике эволюционного развития, что делает абсолютно непонятным многие решения и действия российских политиков за последние годы. Зачем нужно было разваливать Советский Союз, если уровень кооперации между республиками достигал 60–80 %? Почему российская приватизация практически ничего не дала в бюджет, тогда как многие страны, например в Латинской Америке, успешно решали таким способом свои бюджетные проблемы? Почему реформы необходимо было проводить путем шоковой терапии, а не постепенно, последовательно, давая субъектам экономических отношений возможность приспособиться к изменению условий? Поскольку все это представляется противоречащим здравому смыслу, причины начинают искать в самых различных факторах, начиная с некомпетентности российских политиков и кончая вмешательством сил международного империализма, стремившихся подорвать могущество России. Между тем непонятные на первый взгляд решения находят вполне адекватное объяснение, как только начинаешь рассматривать их в логике революционного процесса. Анализ показывает, что проблемы, с которыми сталкивались и продолжают сталкиваться российские политические деятели, были характерны и для других революций. И, более того, часто решались весьма схожими путями.
Вторая проблема возникает, когда российские события пытаются рассматривать с точки зрения теории революции, понимаемой совершенно неадекватно. Так, Давид Коте трактует происходящее в России как революцию «сверху» в противовес революции «снизу», которую он описывает следующим образом: «В истории не раз социально-экономические системы были сметены революциями снизу. В подобных классических революциях жертвы существующего общественного строя из непривилегированных слоев поднимаются, наносят поражение прежнему правящему слою, свергают систему его господства и начинают решать сложную задачу создания новой системы взамен старой. Французская революция – это прототип такого исторического события в новое время, а русская революция 1917 г. служит примером из XX в.» (Kots, Weir, 1997. Р. 153).
Однако даже самый поверхностный исторический анализ показывает, что подобное определение не подходит ни к одной революции, в том числе к Великой французской и к большевистской революциям, на которые ссылается Коте. Все революции, упомянутые выше, начинались с кризиса государства и поддерживавшей его элиты, сопровождались выступлениями «снизу» как в поддержку революции, так и контрреволюционного характера и, наконец, приводили к появлению новой элиты, выполнявшей задачу реконструкции государства. Это весьма далеко от картины победоносного шествия народных масс к светлому будущему. Сопоставление событий в России с чем-то, никогда в истории не существовавшим, очевидно, может привести к искаженным теоретическим представлениям. Поэтому рассмотрение российской революции в контексте прошлого революционного опыта также представляется необходимым для адекватного восприятия российской действительности.
Итак, вторая задача, которую ставят перед собой авторы этой книги, – проанализировать, что может дать для понимания российских событий их рассмотрение в логике революционного развития, какие аспекты российской действительности становятся при этом понятнее, каковы реальные, связанные с революционным характером пережитого Россией периода, мотивы тех или иных решений и действий российских политиков.
Что же мы знаем про революцию? И очень много, и очень мало. Много – поскольку уже два века эта тема интересует историков и философов, теоретиков и практиков. Каждая из известных революций подвергалась (и не раз) детальному историческому анализу, сопоставление наиболее крупных из них стало излюбленной темой ученых и политиков разных стран и континентов. Существует множество теорий, так или иначе объясняющих причины революций, их результаты, роль масс и вождей, насилия, идеологии и других аспектов феномена революции. Мало – поскольку во всем этом многообразии материала существует очень мало общепризнанного, не подвергающегося сомнению, объединяющего, а не разъединяющего специалистов по теории революции.
Что такое революция: «локомотив истории» или катастрофа, нарушающая естественный порядок вещей? Закономерность или досадное стечение обстоятельств? Радикальный прорыв в будущее или маятник, резко качнувшийся в одну сторону, но в конце концов возвращающийся в исходное состояние равновесия? Сколько событий мировой истории можно считать революциями: сотни или единицы? Количество вопросов, не имеющих общепринятых ответов, можно множить и множить.
Революция начинает рассматриваться как специальный объект анализа только на рубеже XVIII–XIX столетий. Ни гражданская война в Англии, ни война за независимость в Северной Америке еще не воспринимались как самостоятельные феномены, отличные от многочисленных восстаний, гражданских войн и переворотов, каких было немало. Да и самого термина «революция» в его современном смысле до конца XVIII в. не существовало. Слово это обозначало нечто противоположное радикальному перевороту: со времен Коперника под «революцией» понимали устойчивое и неизменное движение, изменить которое не в силах смертного. Именно в этом смысле и использовал его придворный Людовика XVI, когда на вопрос короля «Это бунт?» ответил: «Нет, государь, это революция». (По-французски это однокоренные слова – соответственно revolte и revolution.) Непреодолимость революционных событий вскоре была продемонстрирована в полной мере. Однако слову «революция» был придан другой смысл – радикальные, как правило, насильственные преобразования, практически не контролируемые властью и сопровождающиеся частыми сменами правительства.
События конца XVIII в. во Франции с самого начала стали рассматриваться в контексте и в сравнении с английской и американской революциями. Немедленно началась полемика относительно соответствия действий французских революционеров опыту их английских предшественников. Именно этот сюжет становится отправной точкой знаменитой работы Эдмунда Бёрка «Размышления о революции во Франции» – первого опыта сравнительного анализа революций. Бёрк идеализировал опыт английской революции и на этой основе резко критиковал действия первых революционных французских правительств. Эту работу можно считать началом как теоретических исследований в данной области, так и появления «мифологии» революций, когда анализ реальной практики заменяется абстрактной моделью автора (чем, надо признать, грешили и многие последующие исследователи).
После завершения бурных революционных событий во Франции и наполеоновских войн опыт революций все более привлекает внимание исследователей и в какой-то мере входит в моду. Либеральные историки внимательно изучают события в Англии в середине и конце XVII в. (гражданскую войну и Славную революцию), а также недавние потрясения во Франции. Этому посвящены работы Ж. де Сталль, Ф. Гизо, А. де Токвиля, а также других историков и политических мыслителей. Они тщательно анализируют и сопоставляют события в Англии и во Франции, ищут причины схожести и различий двух революций.
Это была первая попытка формирования теории революции – анализа причин ее возникновения и роли в общественном развитии. Причем для большинства этих работ характерно позитивное отношение к революции. Именно у либеральных авторов того времени возникает сравнение революции с «локомотивом истории», которое потом будет прочно ассоциироваться с именем К. Маркса. И это неудивительно. Накопленный к тому времени опыт свидетельствовал скорее о способности революций ускорять благотворные перемены, чем о чудовищных издержках и жертвах. Для мыслителя первой половины XIX в. перед глазами был прежде всего опыт Англии и США, а ужасы французских событий еще могли интерпретироваться как нежелательные исключения из правил[6]. Ключевыми работами этого периода являются, несомненно, исследования Алексиса де Токвиля и Франсуа Гизо.
В книгах Токвиля «Старый порядок и революция» и «Демократия в Америке» исследуется опыт двух революций, их предпосылки и влияние на последующее развитие соответствующих стран. Важнейшая особенность его анализа французских событий состояла в том, что де Токвиль пытался доказать: Великая французская революция ничего принципиально не изменила в развитии французского общества, а лишь довела до конца те тенденции, которые и так осуществлял дореволюционный режим.
Иначе расставлены акценты в знаменитой книге Гизо, посвященной истории английской революции. Для него революция – это освобождение общества от оков старого режима, торжество конституционного порядка. Особенно интересно, что в лице Гизо мы впервые встречаем феномен, так сказать, «практикующего» исследователя революции: этот видный историк был активным деятелем революционных событий 1830 г. во Франции и занимал высокие правительственные посты в период июльской монархии (1830–1848). Для Гизо английская революция была источником опыта эволюционной трансформации страны в направлении либерализма и прогресса. А его знаменитый лозунг «Enrichez-vous» («Обогащайтесь!») ориентировал на эволюционную политическую трансформацию постреволюционного общества, урок которого давала Великобритания.
Наконец, уже в работах французских историков ставится вопрос о возможности использования революционного опыта прошлого для анализа и прогноза дальнейших событий во Франции. Как писал один их современник, «Тьер и затем Минье изображали ход французской революции в виде графика, на котором все основные этапы были предопределены этапами революционного процесса в Англии. С почти математической точностью они высчитывали те направления, по которым должны будут развиваться события [во Франции]» (цит. по Furet, 1988. Р. 308–309).
Другое направление исследований революции связано с социалистической традицией и в значительной мере берет начало у Карла Маркса. Феномен революции в теории марксизма играет совершенно особую роль. Ее понимание в изначальном смысле (как неотвратимости) здесь приобретает теоретическую завершенность. Революция оказывается не только неодолимым валом, которому не может противостоять правительство, допустившее ее возникновение. Революция здесь предопределяется самим ходом общественного развития, движением производительных сил и производственных отношений, результатом медленной, но неотвратимой работы «крота истории». Революции неизбежны, развитие и укрепление буржуазной системы отношений на самом деле лишь приближает социальную революцию.
Но что это будет за революция? Признание ее неизбежности требовало от социалистических авторов прогноза ее основных характеристик, делало актуальной задачу подготовки к революции, чтобы встретить ее, когда придется, во всеоружии. Естественно, в первую очередь для этого следовало изучать опыт революций прошлого, хотя нельзя было обойтись и без спекуляций футурологического толка. Значительную роль в исследовании характера революций будущего сыграли работы К. Маркса, Ф. Энгельса, К. Каутского, исследования французской революции Ж. Жореса и П. Кропоткина. К анализу опыта великих революций прошлого теперь добавилось изучение оборванных и незавершенных революций, прежде всего 1848 г. и Парижской коммуны во Франции, революции 1905 г. в России[7].
К началу XX в. анализ революции все более начинает носить утилитарный характер, когда революционную теорию активно стремятся превратить в революционную практику. На место общих рассуждений и детального исторического анализа приходят проблемы захвата почты, телефона, телеграфа, организации индивидуального террора и массовой крестьянской герильи, поиска союзников и уничтожения врагов. Ленин точно отразил настроение своей эпохи, когда заметил: «Приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать» (ПСС. Т. 33. С. 120). Имена Ленина, Грамши, Мао Цзедуна стали ассоциироваться с теорией революции гораздо больше, чем Гизо и Токвиля.
После революции 1917 г. в России, по масштабу вполне сопоставимой с Великой французской, после мексиканской и китайской революций XX в., а также ряда других переворотов, претендовавших на то, чтобы считаться революциями, появляется значительный материал для теоретического изучения этого феномена, отличного от работ историков и революционеров. Сперва революции привлекают внимание психологов, которые пытаются объяснить этот феномен через «психологию толпы»[8]. Но уже с конца 1920-х годов они становятся предметом анализа специалистов по общественному развитию – политологов, социологов, политэкономов.
Первые теоретические работы в этой области принадлежат так называемым естественным историкам. Эти специалисты не ставили перед собой задачу абстрактных теоретических обобщений. Зато они с блеском описали и детально проанализировали явления и события, характерные для периода революционных потрясений. Наиболее известная и часто цитируемая (в том числе и в данной книге) работа этого периода – «Анатомия революции» Крейна Бринтона. На примере четырех великих революций – английской, американской, французской и российской – Бринтон тщательно прослеживает весь ход революционного процесса: от кризиса «старого режима» к первым шагам революции; к установлению власти «умеренных» и их падению; к победе радикалов, создающих «царство террора и добродетели» и их поражению; затем к термидору и, наконец, завершает свое исследование описанием постреволюционной диктатуры. Этот анализ до сих пор считается классическим.
В 60-е годы революции снова привлекли внимание ученых, но лишь как одна из разновидностей массовых беспорядков – наряду с бунтами, крестьянскими войнами, восстаниями и другими проявлениями насилия. Великие революции как бы растворились в малых, революции вообще – в формах массового насилия. И это неудивительно. Если в 20-30-е годы наибольший интерес вызывали масштабные революционные события в России и Мексике, приход к власти фашистов в Германии, то в послевоенный период внимание переключается на потрясения в странах «третьего мира».
Одна из наиболее известных работ этого периода – книга Теда Роберта Гурра «Почему люди восстают». По его мнению, корни революций (как и других массовых беспорядков) нужно искать в психологии масс. Если люди чувствуют себя разочарованными в существующем политическом режиме, они начинают бунтовать. Гурр пользуется понятием «относительные лишения», противопоставляя их абсолютным. Не так важно, что реально происходит в обществе, как соотношение этого с ожиданиями людей. По мнению Джеймса Дэвиса, разделявшего те же подходы, условия для революции возникают, если период длительного экономического подъема, формирующего завышенные ожидания, сменяется резким спадом и ожидания оказываются обманутыми.
К этому же периоду относится и известная работа Самуэля Хантингтона «Политический порядок в меняющихся обществах». Хантингтон вводит понятия «западной» и «восточной» революции. Западная – та, которая развивается «по Бринтону»: начинается с кризиса государства, проходит через власть умеренных, радикализацию и термидор и заканчивается постреволюционной диктатурой. Образцом для «восточных» революций послужили герильи в странах «третьего мира»: для них характерен длительный период двоевластия, и лишь в конце происходит окончательное поражение «старого режима» и победа революционных сил. Хантингтону же принадлежит одно из самых широко используемых определений революции: «…быстрое, фундаментальное и насильственное изменение внутреннего положения страны, основных ценностей и мифов общества, его политических институтов, социальной структуры, лидерства и деятельности власти» (Huntington, 1968. Р. 264).
В это же время внимание ученых начинают привлекать конфликты между группами интересов, что позволяет не просто рассмотреть революцию как столкновение между различными социальными слоями общества, но и включить в анализ борьбу интересов в рамках каждого слоя. Ситуация многовластия, когда различные группы вступают в острый политический конфликт и способны мобилизовать ресурсы в свою поддержку, – так характеризует революцию, например, Чарльз Тилли.
В 70-е годы появляются исследования революций, построенные на совершенно иных принципах. Если раньше революции «растворялись» в других формах массовых беспорядков, то теперь, напротив, каждая из них становится предметом тщательного и скрупулезного анализа. Детально исследуются взаимоотношения и потенциальные конфликты между властью и элитами, внутри элит, между элитами и различными группами населения, а также внутренняя организация каждой группы. Особое внимание обращается на анализ государства, кризис и распад которого знаменуют начало революционного процесса, а восстановление и укрепление – его завершение. Государство рассматривается как структура, относительно автономная от господствующего класса, государственная бюрократия – как особая социальная сила. Многие представители этого направления вообще считают невозможным формирование общей теории революции, предлагая ограничиться сопоставлением различных частных случаев, поиском в них общего и особенного. К наиболее ярким работам этого периода можно отнести книги Теды Скочпол «Государства и социальные революции» и Джека Голдстоуна «Революции и восстания начала Нового времени».
В своей работе Скочпол анализирует три революции: французскую, российскую и китайскую, сравнивая их с событиями английской гражданской войны XVII в., революцией Мейдзи в Японии 1868 г., прусскими реформами 1 SOT-ISM гг., германской революцией 1848 г., которые, по ее мнению, не являются социальными революциями. Особое внимание Скочпол обращает на предпосылки революционности крестьянства, не считая особо важным для анализа революций городские восстания. Подробному анализу подвергаются структура государственной власти, взаимоотношения между государством, элитой и крестьянством в аграрно-бюрократических обществах; демонстрируются истоки конфликтов между ними, обостряющихся в условиях усиления внешних угроз. Именно во внешнем военном давлении и неспособности государства дать на него адекватный ответ Скочпол видит основные предпосылки революции.
Несколько особняком стоит чрезвычайно интересная работа Джека Голдстоуна «Революции и восстания начала Нового времени». Голдстоун детально анализирует английскую и французскую революции, сравнивая их с периодами ослабления государственной власти в Азии: кризисами в Оттоманской империи, сменами династии в Китае, реставрацией Мейдзи в Японии. В целом он видит истоки ранних революций в демографических процессах и их воздействии на экономические, политические и социальные институты. Рост населения, по его мнению, вызывает усиление конкуренции во всех слоях общества: крестьян – за землю, наемных работников – за рабочие места, элиты – за государственные должности. Те же причины приводят к усилению спроса на товары, росту цен и снижению эффективности налоговой системы. Сталкиваясь с увеличением расходов и исчерпанием традиционных источников доходов, государство испытывает все более острые финансовые трудности. Таким образом, под давлением растущего населения в обществе обостряется целый комплекс противоречий, что в конечном счете приводит к глубокому кризису государства и (в ряде случаев) к революции. В отличие от марксистов, рассматривающих революционные потрясения как катализаторы общественного прогресса, Голдстоун связывает революции с циклическими процессами: волны роста населения вызывали ослабление государственной власти и создавали предпосылки революций; демографическая ситуация стабилизировалась – восстанавливалось и прежнее равновесие.
Обзор современных подходов к анализу революций будет неполон, если не упомянуть достаточно влиятельное течение так называемых ревизионистов, зародившееся во Франции и затем распространившееся и на другие страны. Основной лозунг ревизионистов – разделить миф и реальность в анализе революций (в первую очередь Великой французской), причем ответственность за мифотворчество возлагается в первую очередь на марксистскую школу. На основе детального исторического анализа ревизионисты поставили под сомнение все основные принципы марксистского подхода к этой проблеме, в том числе о революции как механизме общественного прогресса, о закономерности и неизбежности революции, о роли классовой борьбы в революции и т. п. К наиболее видным представителям этого направления относят А. Коббана, Б. Рассела, Ф. Фюре.
В качестве примера типичного подхода ревизионистов к анализу революции можно привести работу Ф. Фюре и Д. Рише (F. Furet, D. Richet, 1970). Для этих авторов не существует единого процесса, который может быть назван Великой французской революцией. Этот процесс распадается на три различные революции: депутатов – в Версале; средних и низших слоев – в городах; крестьянства – в деревне. Ведущей среди них является буржуазная революция – процесс конституционной перестройки государственного механизма. Причем этап якобинской диктатуры оценивается как период, когда буржуазная революция сбилась с пути. Что касается городской и крестьянской революций, то их относят скорее к категории традиционных бунтов. При этом авторы не считают возможным связывать революцию с классовой борьбой – не нарождающийся класс капиталистов сражался с отжившим феодальным строем, а просвещенные либеральные элиты из всех трех сословий боролись против защитников старого порядка и их жесткого консерватизма в отношении реформы государственной власти. Поэтому столкновение носило не социальный, а политический характер. По мнению авторов, буржуазная революция окончательно достигла своих целей только после июльской революции 1830 г.
Почему же, при всей глубине анализа, при огромном количестве вовлеченных в него факторов и разнообразии подходов к их объяснению современная наука оказалась не способной сформировать более или менее общепринятую теорию революции? Здесь можно высказать несколько соображений.
Начнем с того, что революция – это объект исследования, к которому с трудом применимы современные экономические и социальные теории. Большинство развивающихся на Западе направлений общественной мысли более приспособлено к изучению устойчивых, равновесных систем. Любой резкий сдвиг рассматривается как отклонение от состояния равновесия. Революции для подобных теорий в основном представляются явлениями негативными, случайными, которых всегда можно избежать. В крайнем случае допускаются незначительные эволюционные изменения.
Современные исследователи событий в Восточной Европе и на территории бывшего СССР неизбежно испытывают эти трудности и вынуждены признать «недостатки западных подходов и теорий»: «Господствующая экономическая теория в основном ставит своей целью объяснение пограничных, незначительных изменений. Поэтому ее трактовка быстрой, стремительной смены системы в целом в лучшем случае недостаточна, в худшем – дезориентирует. Такие же затруднения мы испытываем при объяснении политических перемен: модели, которые более или менее адекватно подходят для описания представительной системы в западных демократиях, не способны отразить ни базовые институциональные формы, ни условия резких изменений» (Nelson, Tilly, Walker, 1997. Р. 2).
Исследователи, изучающие источники и формы развития общества, все чаще обращаются к институциональной теории, развиваемой в первую очередь в работах Дугласа Норта[9]. Механизмы воздействия общественных институтов[10] на процесс развития, последствия подобного воздействия, а также факторы, влияющие на изменение самих институтов, – центральные проблемы институциональной теории. Но и в этом случае основной акцент делается на эволюционных постепенных изменениях. Резкие, революционные скачки остаются на периферии анализа. В крайнем случае революции рассматриваются как внешний фактор, способный в какой-то степени повлиять на развитие институтов (Норт, 1997. С. 116–118), но не как внутреннее порождение самой институциональной системы в ее взаимодействии с другими факторами развития общества.
В отличие от подобных подходов, марксистская теория считает революции органическим элементом общественного прогресса. Именно благодаря способности описывать динамические процессы, в том числе резкие, скачкообразные изменения, марксизм до сих пор остается одной из наиболее влиятельных социологических теорий. Однако элементы научного анализа в нем так тесно сращены с утопией, а многие аспекты настолько идеологизированы, что использование марксистских подходов в чистом виде также вряд ли способно дать необходимый инструментарий для современного анализа революций.
Традиционные подходы к исследованию революций страдают еще одним существенным недостатком. Если рассмотрение идеологических, психологических, политических, социальных отношений в рамках теории революции имеет долгую историю и богатую традицию, то проблемы, связанные с экономическим развитием и экономической политикой, в лучшем случае освещены в нескольких специальных работах, посвященных конкретным революциям. Возможно, причина такого положения дел субъективна: в большинстве своем исследователи революций – политологи, и они не склонны выходить за рамки привычного круга анализируемых проблем. Однако, когда из анализа общей совокупности общественных отношений выпадает столь существенный пласт, восприятие реальности неизбежно становится односторонним, от внимания исследователя ускользают многие существенные причинно-следственные связи, невозможным оказывается сформировать полную картину динамики предреволюционного и революционного общества.
Таким образом, отсутствие адекватной методологии для анализа динамических процессов и резких сдвигов, а также недостаточное применение междисциплинарного подхода при анализе такого сложного и многогранного феномена, как революция – вот, на наш взгляд, основные причины незаконченности, несформированности теории революции. В какой мере авторам удалось преодолеть эти недостатки – судить читателю.
5
Приведем две достаточно длинные цитаты – обе относятся к 1989 г. и принадлежат крупным современным специалистам по теории революции. «В настоящее время все политические элиты в мире в какой-то мере испытывают на себе давление всепроникающей некомпетентности, хотя во многих странах, в том числе в США и СССР, есть достаточно эффективные способы замены кадров, не создающие опасности для политической системы как таковой… Можно представить себе, что в будущем, хотя такое будущее сейчас очень трудно вообразить, политические системы этих стран также будут разрушены, поскольку не смогут обслуживать потребности своих обществ. Однако нет особых оснований ожидать подобных событий…Оба эти государства, так же как и множество их непосредственных сателлитов, слишком могущественны и не так уж сильно угнетают своих граждан, чтобы в обозримом будущем перспектива революции в них была реальной. Настоящие революционные идеологии сейчас вдохновляются примитивными идеями (деревни мира окружают города), поскольку реальные революционные ситуации в современном мире примитивны по своему характеру» (Dunn, 1989. Р. 22).
«В противоположность (странам «третьего мира». – Авт.) демократическая политика в Первом мире и сочетание главенства коммунистической партии с репрессивным принуждением во Втором мире предотвратили появление сильных революционных движений (или, как в Польше, не допустили непосредственного захвата власти этими движениями). Возможно, ослабление коммунистической системы в части стран Второго мира позволит в будущем усилиться оппозиционным движениям. Но эти движения в основном будут национально-сепаратистскими, а не революционными. И очень трудно представить, что коммунистические вооруженные силы рассыпятся или отступят, как это делали колониальные войска или армии диктаторов Третьего мира» (Skocpol and Goodwin, 1994. Р. 274. Данная статья впервые была опубликована в декабре 1989 г. в журнале «Politics and Society»).
6
Некоторые авторы даже сравнивали восприятие революции в XIX в. с «новой религией»: «Новая религия утвердилась в XIX в. – религия борьбы, захватившая умы и души людей, щеголявшая достоинствами революционного террора. Подобные идеи получили широкое распространение в Европе…» (Martin, 1954. Р. 3).
7
И одновременно появились работы, ядовито критикующие, если не высмеивающие, революционный опыт. Наиболее ярким примером такого рода является книга Ипполита Тэна (Taine, 1978). Одной из последних по времени написания работ, рассматривающей в комплексе аргументы критиков революции как явления бессмысленные и вредные, следует считать книгу А. Хиршмана (Hirschman, 1991).
8
Наиболее ярким примером такого рода работ является «Психология толп» Постава Лебона, впервые опубликованная еще в 1895 г. и по своим социально-политическим настроениям вполне перекликающаяся с историей французской революции И. Тэна.
9
Детальное изложение этой теории можно найти, например, в книге Д. Норта «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» (1997).
10
Д. Норт определяет институты как «правила игры» в обществе: «институты представляют собой рамки, в пределах которых люди взаимодействуют друг с другом… Они состоят из формальных писаных правил и обычно неписаных кодексов поведения, которые лежат глубже формальных правил и дополняют их…» (Норт, 1997. С. 19). К институтам относятся законы, правила, нормы, а также традиции, верования и т. п.