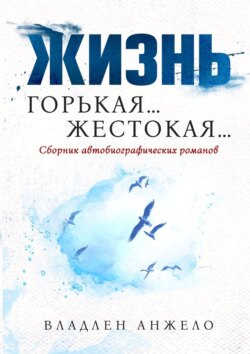Читать книгу Жизнь Горькая… Жестокая… - Владлен Анжело - Страница 14
Сирота
(Детство. Отрочество. Юность)
1920—1953 годы
Глава 10. Возвращение
ОглавлениеРовно месяц мы были в пути. 20 мая 1944 года мы добрались до железнодорожной станции Пироговка, на пароме переплыли реку Десну и под вечер въехали в Новгород-Северский, который покинули почти три года тому назад. Я с горечью обратил внимание на то, что самые красивые здания в городе, в которых размещались райком партии, горисполком, райотдел НКВД и другие, были разрушены… Водонапорная башня на базарной площади была взорвана… Однако самым ужасным стало известие о том, что все евреи, оставшиеся в городе (их было несколько тысяч человек!), были безжалостно истреблены… В их числе были наши бывшие соседи – семья Вениамина Термана… До сих пор не заживает в груди рана от безумия и бесчеловечности немецко-фашистских извергов…
* * *
По прибытии отец снова стал работать директором горторга. Он, Ида и Виктория поселились на центральной улице города – имени Карла Маркса – в благоустроенной отдельной квартире. Нам с тётей спустя некоторое время выделили комнату в коммуналке. Тётя устроилась на работу в столовую в качестве кухонной работницы – корнечистки. Эта столовая находилась рядом с нашим домом.
К началу экзаменов за шестой класс я опоздал, так что пришлось мне досдать один экзамен по русскому языку. После этого я был переведён в седьмой класс.
Между тем война с немецкими фашистами продолжалась… В такое время быть в стороне от трудовых будней, прохлаждаться в тенистом парке или загорать на пляже было (с моей точки зрения) аморально! Я уговорил отца принять меня в горторг на работу. Меня оформили учеником бухгалтера с зарплатой сто рублей в месяц. Мне выдали хлебную карточку служащего. Кстати, я стал трудиться в той самой бухгалтерии, в которой за четыре года до этого мой отец демонстрировал мою похвальную грамоту за третий класс.
В основном мне приходилось выполнять графическую работу, расчерчивать листы с колонками «дебет», «кредит», «сальдо», поскольку типографские бланки отсутствовали. Когда поступала разнарядка на выполнение работ по городу или в сельской местности, меня всегда включали в состав бригады. Я принимал участие в расчистке территории от камней, где стояла водонапорная башня. Меня посылали и на сенокос, и на уборку хлебов. В этом отношении у меня не было поблажки, и я на это не обижался. Я хорошо понимал: так надо! А отцу лишние разговоры были ни к чему…
* * *
Возвращение в город моего детства из деревенской глуши в Саратовской области позволило мне услышать по радио много новых песен. До сих пор я помню начало следующей песни:
Помню городок провинциальный,
Тихий, закоульный и печальный,
Маленький базар, солнечный бульвар,
И среди мелькающих пар гляжу я:
Чей-то знакомый, родной силуэт,
Синий берет, синий жакет,
Синяя юбка, девичий стан —
Мой мимолётный роман!
Таня, Танюша, Татьяна моя!
Помнишь ли знойное лето это?
Как же так можно всё позабыть,
То, что пришлось пережить!..
Будучи человеком преклонного возраста, оказавшись в Канаде, я написал цикл статей, посвящённых 70-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Одна из них называлась «Песни войны». Она была опубликована в газете «Ванкувер Экспресс» 21 июня 2011 года. Привожу текст этой статьи в сокращённом виде.
Ещё до начала Великой Отечественной войны в Советском Союзе началось прославление Сталина. Горько и больно вспоминать, как я, будучи пионером, вместе со своими товарищами пел:
Сталин – наша слава боевая!
Сталин – нашей юности полёт!
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идёт!
В главе 7 приведены фрагменты песен «Марш танкистов», «Марш артиллеристов» и др. К счастью, во время войны прозвучали песни и совершенно иного содержания. Близость смерти в грядущем бою с немецко-фашистскими извергами сняла покров советской идеологической пропаганды, выявив в людях сокровенные чувства любви к их близким, в первую очередь к женщинам – матерям, жёнам, невестам.
В годы моей ранней юности на меня произвела неизгладимое впечатление песня «Жди меня!», написанная композитором К. Листовым на стихи Константина Симонова. Считаю своим нравственным долгом воспроизвести в своих заметках слова этой проникновенной песни:
Жди меня, и я вернусь! Только очень жди!
Жди, когда наводят грусть жёлтые дожди!
Жди, когда снега метут, жди, когда жара!
Жди, когда других не ждут, позабыв вчера!
Жди, когда из дальних мест писем не придёт!
Жди, когда уж надоест тем, кто вместе ждёт.
Жди меня, и я вернусь! Не желай добра
Тем, кто знает наизусть, что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня.
Пусть друзья, устанув ждать, сядут у огня,
Выпьют горькое вино на помин души…
Жди, и с ними заодно выпить не спеши!
Жди меня, и я вернусь всем чертям назло!
Кто не ждал меня, тот пусть скажет: «Повезло».
Не понять не ждавшим им, как среди огня
Ожиданием своим ты спасла меня…
Как я выжил, будем знать только мы с тобой.
Просто ты умела ждать, как никто другой…
* * *
Тоска по далёкой любимой, пугливая надежда на верность были сквозной темой симоновской лирики. К. Симонов первым ощутил эту всеобщую жажду верить своим любимым и выступил со стихами, которые стали самыми популярными в военной России. Их вырезали из газет и хранили вместе с фотографиями жён и невест. Форма заклинания, присущая многим военным стихам К. Симонова, в вышеприведённом стихотворении доведена до крайности, до мольбы… Завораживающая сила внушения, основанная на почти мистическом – десятикратном – повторении слова «жди», приводит к мистическому выводу, в который хотелось верить людям, даже далёким от мистики. Мистическое «Жди меня» долго казалось вершиной, достигнутой в эти суровые годы войны лирической поэзией. Во всяком случае, это, наверное, был единственный случай, когда стихотворение вызвало род массового гипноза…
Другой песней, которая запечатлелась во мне на всю жизнь, стала проникновенная «Тёмная ночь», написанная композитором Никитой Богословским на стихи В. Агатова. Вот два фрагмента этой песни:
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз!
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами…
Ты меня ждёшь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому знаю: со мной ничего не случится…
Незабываемое впечатление произвела на меня песня «В землянке», написанная композитором К. Листовым на стихи Алексея Суркова. Вот её текст:
Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза…
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой…
Ты сейчас далеко, далеко…
Между нами снега и снега…
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага…
Пой, гармоника, вьюге назло!
Заплутавшее счастье зови!
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви…
В кратких заметках невозможно рассказать обо всём, что было написано в годы войны. В памяти сохранилась песня: «В лесу прифронтовом». Вот её начало:
С берёз неслышен, невесом
Спадает жёлтый лист.
Солдатский вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И словно в забытьи
Сидят и слушают бойцы,
Товарищи мои.
Кроме солдатского, был написан «Офицерский вальс», который начинался такими словами:
Ночь коротка, спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая Ваша рука…
Большой популярностью в годы войны пользовалась песня «Синий платочек», написанная композитором Е. Петерсбургским на стихи М. Максимова. Вот её начало:
Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч.
Как провожала и обещала
Синий платочек беречь.
И пусть со мной
Нет сегодня любимой, родной.
Знаю: с любовью ты к изголовью
Прячешь платок голубой…
Эту песню талантливо исполняла популярная певица Клавдия Шульженко.
Завершить свои краткие заметки о песнях войны мне хочется проникновенной песней «Последний бой», созданной композиторами М. Ножкиным и Д. Ашкенази. Слова песни написал один из композиторов, М. Ножкин. Глубоко за душу трогают строки:
Мы так давно, мы так давно не отдыхали.
Нам было не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали.
И завтра, наконец, последний бой…
Ещё немного, ещё чуть-чуть…
Последний бой! Он трудный самый…
А я в Россию, домой хочу!
Я так давно не видел маму…
Эту песню тоже талантливо исполняла Клавдия Шульженко.
Песни во время войны повышали эмоциональное состояние бойцов, поднимали их боевой дух и жизнестойкость, укрепляли их несокрушимую веру в победу над вторгшимися в пределы нашей Родины немецко-фашистскими захватчиками.
Песни военных лет для меня явились той нравственной основой, которая помогала преодолевать трудности в учёбе, в труде, в нелёгкой жизни в эпоху сталинщины…
* * *
1 сентября 1944 года я начал учиться в седьмом классе Новгород-Северской школы №1. К сожалению, первый блин оказался… «комом»! На уроке по физике я схлопотал… двойку! Пришлось взяться за ум. На следующем уроке по физике я вызвался ответить, и рядом с двойкой появилась вожделенная пятёрка. Первую четверть я завершил превосходно! Однако этот успех сыграл со мной злую шутку: в конце 1944 года на состоявшемся отчётно-выборном комсомольском собрании старшеклассников и учителей (в ту пору не было разделения первичных комсомольских организаций – ученических и учительских) меня выдвинули в комитет ВЛКСМ, а затем на заседании вновь избранного комитета я был избран (по инициативе директора школы Самардина Виктора Самойловича) комсоргом школы.
Я оказался в тяжелейшей ситуации… С превеликим трудом, достигнув отличных отметок, я вынужден был тратить львиную долю времени на общественной работе, к которой никогда не испытывал ни любви, ни уважения… Я очень хорошо понимал: в комсорги я не гожусь! Фигурально выражаясь, я был белой вороной: не сквернословил, на контрольных работах шпаргалки отстающим ученикам не рассылал, концентрируя всё внимание на выполнении своего задания. Драться не умел… Комсоргом, по моему убеждению, должен быть рубаха-парень, заводила, отличный спортсмен, прирождённый организатор. А я был махровым индивидуалистом.
Когда я отцу пожаловался на сложившуюся ситуацию, он ответил: «Надо, Вова, надо!» Я и сам понимал: надо! Ведь я взял курс на золотую медаль… Поэтому придётся целый год тянуть эту лямку…
Я открывал школьные комсомольские собрания, организовывал отчёты пионервожатых на заседаниях комитета, выполнял указания райкома ВЛКСМ о сборе металлолома, следил за сбором членских взносов.
Однако самым нежелательным для меня было участие в заседаниях пленумов райкома комсомола. Многочасовые прения о проблемах животноводства, о подкормке озимых, о подготовке к весеннему севу, о шефской помощи селу доводили меня до полного нервного истощения… Присутствие на этих пленумах стало для меня жестокой и мучительной пыткой…
Возвращаясь поздно вечером домой из райкома комсомола, я с завистью смотрел на своих одноклассников, которые катались на лыжах по заснеженным улицам, а я, испытывая сильнейшую головную боль, с невыученными уроками, плёлся к своему дому…
* * *
В начале зимы 1944—1945 годов со мной произошёл крайне неприятный случай. Вот как это было. Однажды поздним вечером я подошёл к зданию кинотеатра, чтобы посмотреть какой-то художественный фильм. В этот момент кто-то из детдомовцев, которых тоже привели в кинотеатр, ударил меня сзади в спину каким-то острым предметом. К счастью, на мне была зимняя тужурка с толстой прокладкой из ваты. Тем не менее остриё предмета (я полагаю, это была заточка) вонзилось мне в спину… Я почувствовал острую боль… Вместо того чтобы тут же поскорее вернуться домой, я продолжил свой путь.
Сидя в зрительном зале кинотеатра, я почувствовал, как по спине течёт струйка крови… Когда после окончания киносеанса я возвратился домой и снял нательную рубашку, она оказалась… окровавленной!
* * *
Во всей моей деятельности в качестве комсорга школы в моей памяти сохранилось лишь одно светлое воспоминание. Накануне нового, 1945 года я получил из райкома комсомола директиву: организовать выступление концерта художественной самодеятельности во время зимних каникул в одном из подшефных колхозов. С огромным энтузиазмом я взялся за выполнение «боевого задания» вышестоящего комсомольского начальства. Прежде всего были составлены списки чтецов-декламаторов, музыкантов, вокалистов, танцоров. Гвоздём программы должна была стать одноактная пьеса на современную тему «Возмездие», в которой есть финальная сцена: партизаны с оружием в руках врываются в дом сельского старосты, продавшегося немцам, и… убивают его!
Пьеса, автором которой был я, ребятам понравилась. Однако, когда дело дошло до распределения ролей, никто не соглашался сыграть роль изменника Родины. Чтобы не сорвать спектакль, я решил проявить свои артистические способности и сыграть роль этого злосчастного старосты. Забегая вперёд, скажу без ложной скромности: спектакль имел ошеломляющий успех!
В назначенный день в школу на санях приехали колхозники и, взяв нас по три-четыре человека, привезли в село. Концерт мы дали в сельском клубе. По окончании концерта нас разобрали по два ученика в колхозные семьи. На следующий день мы благополучно вернулись в город.
Третью учебную четверть, несмотря на общественную нагрузку, я закончил на отлично по всем предметам.
9 апреля 1945 года, ровно за месяц до праздника Победы, мне исполнилось 16 лет. При получении паспорта я стоял перед дилеммой: назваться именем Владимир, к которому я привык за всю свою сознательную жизнь, или написать «Владлен», как значилось в свидетельстве о рождении. Свой выбор я сделал в пользу «Владимира», так как в будущем, когда я стану отцом, отчество «Владимирович», «Владимировна» являются более привычными.
Лишь почти полвека спустя я избрал себе литературный псевдоним «Владлен Анжело», воздав свой долг светлой памяти моей покойной мамы Раисы Яковлевны Анжело…
* * *
9 мая 1945 года я запомнил на всю жизнь! Все годы военного лихолетья я мечтал о победе над фашизмом. Я гордился блистательными победами Советской Армии. Я ненавидел немецко-фашистских захватчиков, принёсших много горя нашей стране…
Утром 9 мая, в среду, я услышал по радио благую весть: Германия капитулировала!!! В школе в тот день занятия были отменены. К 11 часам все ученики должны явиться в школу и организованно, одной колонной, направиться на городскую площадь. С флагами, транспарантами, портретами вождей мы пришли на площадь. Выступало районное начальство. После митинга на площади играл духовой оркестр. Царило приподнятое настроение! Незнакомые люди обнимали друг друга! Слёзы невольно катились из глаз… Этот день навсегда остался в моей памяти…
26 апреля 2011 года, в канун 66-й годовщины со Дня Победы, была опубликована моя статья «Праздник со слезами на глазах…» в газете «Ванкувер Экспресс», в которой я, в частности, писал: «Ныне, спустя 66 лет, мы должны воздать свой долг светлой памяти тем, кто отдал свою жизнь за победу над врагом».
Зимой 1942 года, находясь в эвакуации в Саратовской области, я узнал о подвиге 18-летней московской школьницы Зои Космодемьянской. Поэтесса Маргарита Алигер написала поэму «Зоя», в которой были такие стихотворные строчки:
Стань же нашей любимицей,
Символом веры и правды,
Чтоб была наша верность,
Как гибель твоя, высока.
Мимо твоей, занесённой снегами, могилы
На Запад, на Запад идут, присягая войска…
Поэт-фронтовик Николай Любченко в 1941 году, в свои неполные 18 лет, ушёл добровольцем на фронт. Он прошёл всю войну от первого до последнего дня. Вот одно из его проникновенных стихотворений:
В кромешный ад ворвусь, бывало —
Её любовь от пули берегла.
Мечта о ней погибнуть не давала
И встретить День Победы помогла.
А в День Победы мы уже в Берлине
План нашей жизни строили в мечтах…
Но наступила Наденька на мину
И умирала на моих руках…
С тех пор не ведаю покоя…
Мне не забыть её любви…
Живу лишь в атмосфере боя,
Плывя во вражеской крови…
И мысль одну я не могу оставить,
Ради неё на всё готов:
Хочу я вечный памятник поставить
Из гор пробитых вражьих черепов…
Во сне я вижу облик нежный,
И днём шагает рядышком она.
Мне не забыть тебя, моя Надежда!
Ты навсегда в моей душе одна…
Вы мне напомнили её так ясно,
Воспоминаний вспыхнул рой.
Она, как ты, во всём была прекрасной!
Вот почему мне трудно быть с тобой…
* * *
Другой поэт-фронтовик Булат Окуджава написал много замечательных стихотворений о войне. Вот одно из них:
Ах, война, что ж ты сделала, подлая?!
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли —
Повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом солдат…
До свидания, мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад…
* * *
Поэт-фронтовик Е. С. Гудзенко в стихотворении «Однополчане» написал о жестоких реалиях страшной Великой Отечественной войны:
Когда на смерть идут – поют,
А перед этим можно плакать…
Ведь самый страшный час в бою —
Час ожидания атаки…
Мне кажется, что я – магнит,
Что я притягиваю мины.
Разрыв – и лейтенант хрипит,
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже не в силах ждать,
И нас ведёт через траншеи
Окоченевшая вражда,
Штыком дырявящая шеи…
Бой был коротким, а потом
Глушили водку ледяную,
И выковыривал ножом
Из-под ногтей я кровь чужую…
* * *
Первые снаряды немецких орудий, взорвавшиеся на советской земле, вызвали к жизни главную тему военных лет:
Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Это стало правдой дня. Тысяча четыреста восемнадцать кровавых дней и ночей продолжали оставаться для страны правдой – главной и очевидной. Песня «Священная война» была знаменем ненависти. Такой яростной силы, такой естественной интонации исполнены разве гимны революций.
…Умолкли 9 мая 1945 года раскалённые под Берлином пушки – вернулось в города и сёла России поредевшее поколение воинов-фронтовиков, которое включилось в ратный труд советских тружеников тыла по восстановлению разрушенных врагом городов и посёлков, заводов и фабрик, электростанций и угольных шахт.
Самое парадоксальное состояло в том, что войны могло бы не быть! Об этом я написал в главе 7 «Война».
* * *
В связи с 70-летием со дня начала Великой Отечественной войны 1941—1945 годов я написал цикл статей, посвящённых минувшей войне. Одна из них, «Поэзия в годы войны», была опубликована 28 июня 2011 года в газете «Ванкувер Экспресс». Предлагаю вниманию читателей фрагменты из этой статьи.
…Самым популярным поэтом в годы Великой Отечественной войны был Константин Симонов. Он без всякого преувеличения был общим любимцем у советских воинов. Его сила была в том, что он в простых словах обращался не к народу вообще, не к солдатам всех фронтов, а к каждому лично. И понятие Родины, главную тему поэтов войны, он сумел к каждому приблизить стороной личной, безусловной:
Если ты не хочешь отдать
Немцу с чёрным его ружьём
Дом, где жил ты, жену и мать,
Всё, что Родиной мы зовём,
Знай – никто её не спасёт,
Если ты её не спасёшь.
Знай – никто его не убьёт,
Если ты его не убьёшь.
* * *
Жестокие реалии фронтовой жизни талантливо изобразил поэт-фронтовик Николай Любченко. Я приведу лишь три стихотворения из его сборника «Раны памяти», который был издан в 2005 году в Ванкувере.
Боям высотка помешала.
Её бы можно обойти,
Да очень выгодно стояла
К звезде Героя на пути.
И были брошены солдаты
В атаку под прямой огонь.
За сутки боя было взято…
Плацдарм величиной с ладонь.
Сначала немцы удивились:
Они в сраженьях знали толк.
Потом серьёзно укрепились
И… перебили целый полк…
Высотку эту всё же взяли
За жизнь полка – такую мзду
Солдатики врагу отдали
За генералову звезду…
* * *
В глазах отвагу вижу вновь,
На белых марлевых повязках —
Ещё дымящуюся кровь…
И трупы, трупы на салазках…
Стоял бессменно, как любил я,
Над спящей ротой на часах
Смотрел, как ИЛов эскадрильи
Стригут просторы в небесах.
На миг тревожно засыпаешь
Под свет мерцающих ракет
И, видя вещий сон, гадаешь:
Убьют сегодня или нет…
Я здесь умру без вдохновенья,
Задушен будничной тоской…
Я жажду битвы упоенья,
Я жажду вихря и смятенья,
И смерть в сраженьи – жребий мой…
На штык мундир грязно-зелёный
Любил в атаке насадить.
Увидеть вид благословлённый:
Ему (не мне) уже не жить!
И насладиться видом мук,
Не выпуская штык из рук.
И ад, и рай в игре видений
В уме пылающем моём,
Где Дьявол с Господом вдвоём
Рвут миллионы поколений
И превращают в толпы теней
Всепожирающим огнём…
* * *
Война окончена. Прошла…
Как ждали этот час!
Как будет жизнь теперь светла
У каждого из нас!
Нам двадцать пять! Зачем грустить?
Ведь жизнь так хороша!
И можно горы своротить,
Когда поёт душа!
Я этот миг годами ждал
В окопах и боях.
Я имя милое шептал
И звал тебя во снах.
Искал в строю среди бойцов
И трупов на полях…
В походах ждал я письмецо
И ждал в госпиталях.
Я знал: к тебе далёкий путь
Идёт через Берлин.
Тебя себе могу вернуть
Сквозь прах его руин.
И вот взвился победный стяг,
Окрашенный в крови…
Фундамент прочный – на костях —
Для жизни и любви…
Страшную и жестокую картину кровопролитной Великой Отечественной войны помогает осмыслить и понять художественная литература.