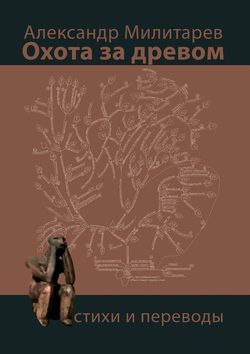Читать книгу Охота за древом. Стихи и переводы - Александр Милитарев - Страница 8
Из цикла «Филология»
ОглавлениеСтихи о русской поэзии ушедшего века
Поэтов русских высота,
полет – стены отвесней,
и тень погнутого креста
над лебединой песней.
(из юношеских стихов)
Аське
Стихи – бесстыдное занятье
людей, стыдливых до забав,
кому невместно скинуть платье
при всех, хоть в койке у шалав.
Ах, что судьба! Судьба – индейка,
рифмовок кармовая клеть.
А вот свобода-иудейка
в том, чтоб и стыд преодолеть.
Не со стыда ли брили пейсы
и оба Оси, и Борис?
(Ведь только с геном эритрейца
легко ходить на снежность риз.)
Чего уж говорить о дамах!
В слезах проходят, обе две:
ну как задрать подол до самых…,
как век стоять на голове?
Как доносить стихотворенье
под сердцем, черным от растрав?
Одной – петля, другой – старенье.
О, Боже правый, ты не прав.
Да, об эпохе, жизни, лямке
что говорить? Ну, не свезло.
А что никто не вышел в дамки,
так это было западло.
Вон: агнцем по волчарне рыща,
звеньев опущенных кузнец,
поэтов царь, надменный нищий —
ведь доигрался, наконец.
Другой, запрятавшись беспечно
в природу, в переводы, в тень,
решил: мне жизнь – сестра навечно.
Что он скопил про черный день?
(Лишь самый младший был везучий —
бежал он, ободрав бока.
Но горше нет его созвучий,
и невский лед его строка.)
А в след колес, из-под турусов
влетев, поспел ли, как в кино,
с тураевской шпаргалкой Брюсов
сыграть в кровавом казино?
И сквозь слезу не зрит ли око:
сокрытой камерой заснят,
над неподвижным ликом Блока
болотный венчик бесенят?
А председатель угорелый,
дерзнувший оструктурить бред?
А симулянт безумья белый?
От всех остался красный след.
А долговязый возмутитель?
Все до плеча, всё по плечу:
я – новой жизни возвеститель!
я рифмы бритвою точу!
А визави его кудрявый,
любимец муз, хлыстов и баб,
и наше всё догнавший славой?
Как все, он оказался слаб.
Вот если б из-под пули выжил
последний рыцарь, дивный враль,
когда б потомком не унижен
да пожил – вот кого бы в рай!
Но формула неотменима:
направо – потеряешь честь,
налево – ум, а прямо – мимо
судьбы, к стихам, что ни прочесть,
ни переврать не будет шанса
у интернетова писца
(и нобелевского венца
в дурном изводе иностранца
не схлопотать, а до конца
рядиться в тельник голодранца).
Поэтому легко поэту —
шпарь, не заботясь о судьбе!
у ней засолены ответы.
Но надо стыд убить в себе.
Мы алчем ласки муз? Не верьте:
мы озабочены лишь тем,
чтоб снять табу еще до смерти
с запретных рифм, с заветных тем.
(2002, Бердянск)
В файл «Альбом.doc»
«Я десять лет не понимая…»
Я десять лет не понимая
тлел не горел
я был слепой а ты немая
и вот прозрел
я думал он с годами высох
в душе тот след
и рифм на адрес хмурых лысых
не пишут нет
глаза мне застил мутный фокус
былых грехов
но катаракту съела окись
твоих стихов
и вот пишу по паутине
из-за морей
и размышляю о причине
зачем еврей
спешу вернуться в край любимый
мной не тобой
с его шальной невыносимой
родной судьбой
зачем ныряю в этот морок
сплав без плота
где жизнь ни в грош покой не дорог
все маета
зачем готов чем ближе к точке
жить за тире
когда весь банк давно на бочке
опять в игре
согреть в горсти и бросить кости
на новый кон
и вновь спешить домой как в гости
допить флакон
я возвращаюсь возвращаюсь
delete печаль
экран тускнеет тьма прощаюсь.
К утру встречай.
(2002, Санта Фе – Альбукерке)
«Твоим стихам, написанным не рано…»
Твоим стихам, написанным не рано,
пролившимся как солнце из тумана,
как кровь из вены,
твоим стихам, посеянным в молчаньи,
расцвеченным палитрой увяданья,
мазками тлена,
твоим стихам, бессильным как моленье,
как заговор от боли и забвенья,
я знаю цену.
(2002)
Бывший экспромт
«Постмодернизм – дедок попсы…»
Постмодернизм – дедок попсы.
Он схож с искусством без обмана
как онанизм через трусы
схож с ночью страсти в пик романа.
Коль смысл смешон, а жизнь – копейка
и под луной всяк акт – не нов,
сподручней руки греть с ремейка,
не вынимая из штанов.
(2003)
«Поэтике мешает этика…»
Поэтике мешает этика,
а этике мешает жизнь.
Попробуй, поживи на свете-ка
и неподсудным окажись.
А здесь, где rusica-sovetica
в костер плеснет то кровь, то шизь,
как ни зверька, ни человечека
не оттолкнуть, хоть размозжись?
Как экзистню до экзистенции
поднять, презрев и стыд, и быт,
когда по лавкам дети спят?
Так:
в убывающей каденции,
когда заранее убит,
встать – и копье метнуть в распад.
(2007)
«От постмодернистской оттяжки…»
Вяч. Вс. Иванову – по прочтении его
брошюры «Наука о человеке. Введение
в современную антропологию»
(курс лекций). М., 2004
От постмодернистской оттяжки
как бомж от кутюр далеки,
замшелы как наши замашки,
нечитаны наши стихи.
Нам срока отпущено мало —
его не хватает всегда,
и еле видна из подвала
мельчайшая наша звезда.
Порой нам смешна наша вера
в непознанный императив
и в то, что взойдет ноосфера,
вселенную смыслом снабдив.
Но бельма нацеля слепые
и цель без промашки разя,
куражится мать энтропия,
и брать отпускные нельзя.
Не считано, сколько осталось
в жидеющих наших рядах
и сколько придет – эту малость
восполнить в грядущих родах.
Завидуя релятивистам,
заведуя только собой,
мы с тихим отчетливым свистом
ведем свой расчетливый бой,
рассчитанный на неудачу,
заложенный на неуспех.
А славы подкупим на сдачу
с бессмертья.
Там хватит на всех.
(2007, Москва—Бронкс)
Детям
«Наденька, ветчинку, будь добга, сюда.
А хлеб – детям, детям!»
(из Ленинианы)
Написана масса на свете
всего о страстях роковых,
но чувства, что будят в нас дети,
прочней и светлей половых.
Я не о подросших – о детях,
о малых, всамделишных, сих,
о тех, за кого мы в ответе
из-за беззащитности их.
Любой романтической дури,
любому оттенку страстей
дань отдана в литературе,
но мало в ней видно детей.
Самца соразмерного поиск
забот материнских первей.
Ложатся под дрянь и под поезд
дурехи всех стран и кровей.
Любовь, с феромона балдея,
делить норовят на двоих
(одна проявила Медея
заботу о детях своих).
Как доблесть воспетая ревность —
на деле сплошной эгоизм,
ползущий в дремучую древность
хвостатый такой атавизм.
Эмоций возвышенных маску
с той ревности снять – а под ней
узришь скопидомскую тряску
купца над кубышкой своей.
А эти – мессиры да доны,
кому что алтарь, что альков,
сей орден Святого Гормона,
что враз причаститься готов
всей дамскою плотью наличной.
А первым чтоб прыгнуть в кровать,
привычно и даже прилично
подельнику глотку порвать.
И ладно махалось когда бы
друг с дружкою это урло,
но Трою урыть из-за бабы?
А сколько народу легло!
Но светел иною любовью
кто ею живет или жил:
с детьми мы повязаны кровью,
что в жилах течет – не из жил.
Пленительно женское тело
(про душу молчу уже я),
и слиться с ним – милое дело,
а все же не смысл бытия.
Но данного тела приметы
у всех на слуху и виду —
ваганты, гриоты, поэты
в одну только дуют дуду.
Подчас и тончайшим из этих
жрецов Купидона и муз,
уж если и вспомнят о детях,
то лира изменит, то вкус.
В безмерном Шекспира наследстве
сюжета заметнее нет
о чуде природы, о детстве,
чем страсти с тринадцати лет.
За знание женской натуры
Толстому хвала и почет:
скок, Анна, под поезд! Амуры
закончились. Дети не в счет.
А есть ли манерней у Блока
стихи, где он смерть описал
ребенка в бесчувственных строках
про карлу, что вылез к часам?
И в средневековом искусстве
не сыщешь детей днем с огнем.
Там все о младенце Иисусе,
о детстве – так, значит, о нем.
В смущеньи смотрю я на эти
причуды великих людей —
как будто бы нету на свете
родительских чувств и детей.
Без них, обрастая коростой,
стать может культура сплошной
игрою жестокою взрослой
по правилам зоны блатной.
Но, может, у предков безличен
инстинкт этот был, как у рыб,
и был он к малькам безразличен,
наш вид, до недавней поры?
Условны морали основы,
и нечего душу томить,
и легче родить было новых,
чем этих, чумазых, отмыть.
Отсев шел в процентах, и снова
бах-трах! и рожали подряд.
Детей, вон, сменили Иову,
а он оклемался и рад!
Во время, наверное, о́но
и мать что кукушка была!
Вон, та – на суде Соломона
ребенка другой отдала.
Детей, верно, меньше любили —
обратно количеству их.
…Но нет утешенья Рахили,
что плачет о детях своих…
(В наш век, правда, в обществе стала
забота о детях расти,
но это все – мир капитала:
с тем миром нам не по пути.
Особый наш путь. И родимых
сироток, приютскую голь,
мы ценим и не отдадим их
во вражьих объятий юдоль.
Осу́ждена нашим народом
и думой клеймлена навек
поганого Запада мода
на детушек наших калек.
Детей – наши фьючерсы – все мы,
встав в строй, не дадим отнимать!
Но я отклонился от темы,
чуть вспомнилась родина-мать).
Мир скроен не с детского сада,
и нюни к чему разводить?
Но лирою к детям бы надо
чувств добрых побольше будить.
Мне скажет сосед-культуролог:
«Ты эти кунштюки забудь!
Сам знаешь, извилист и долог
прогресса культурного путь.
У каждой науки свой метод,
и в область специальную лезть
с профанным подходом, как этот,
тебе, брат, не делает честь».
Напомнит про школы и стили,
про смену и связь парадигм
(ну, что-то и мы проходили,
хоть это давно позади).
Интертекстуальность отметит,
к большим отошлет именам.
«А смерть, там, любовь или дети,
так это, прости уж, не к нам.
И жизнью поверить культуру
нельзя – там другой алгоритм,
а тот, кто не верит в структуру,
пусть пламенем синим горит.
И дискурс твой контрпродуктивен,
пусть даже как творческий ход».
О Боже, зачем мне противен
родимый научный подход?
Когда ты на собственной шкуре
проверишь, что жизни – в обрез,
к вояжам, науке, культуре
слабеет былой интерес.
Любви разнополой терзанья
(с другой я, пардон, не знаком)
уходят – приходит сознанье,
что главное в чем-то другом.
Становятся брачные узы
у многих с годами, увы,
привычкой, рутиной, обузой
и тянутся из головы.
И только одно остается —
смех детский и жалобный плач.
От них только сердце забьется,
а горечь былых неудач
и мелких удач эйфория
уйдут вместе с пеной страстей.
И жизнь удалась бы, умри я
без страха за судьбы детей.
(июль-август 2008, Бронкс)
Сонеты
«Есть в акте творчества три части…»
Моим любимым юным старикам – Зае и Б.Б.
Есть в акте творчества три части,
когда находит стих всерьез:
пролог – жжет душу мысль, вопрос,
страданья опыт или страсти.
Затем ты отдаешься власти
стихии языка. Вразнос
идет сознанье: сон, гипноз,
невнятным таинствам причастье?
На третье – правка, ремесло,
безжалостных купюр рутина,
паренью духа столь презренна.
Без них зазубрено тесло,
чревата патиной картина
и все стихотворенье тленно.
(май 2008, Бронкс)
«Пьянят нас с детства миражи да глюки…»
Пьянят нас с детства миражи да глюки:
Культуры Храм, Искусства Божество,
художники – еродулы его22,
поэты – его верные мамлюки23!
Коси́тся на природу мастерство,
под роды ко́сят творческие муки.
Художник добр. Он не обидит мухи
(ну, разве малость брата своего).
Но к старости трезвенья скоплен опыт,
и лишние шумы слышны как шепот.
Возделывай, художник, тихо куст свой,
но не за счет живых, а вместо сна.
Жизнь подлинна. Искусственно искусство.
Поэзия, где твое место, знай.
(июнь 2008, Бронкс)
«Искусство – древнее занятие…»
Искусство – древнее занятие,
наследье волшб и фетишей.
Прозрачно, как его ни шей,
любой монаршей голи платье.
Работай, творческая братия!
А пить, детей лишать грошей,
дурить, себя лишать ушей —
не дар свободы, а проклятье.
И если человечьи жертвы
искусству приносить в ответ
за духа пир, успех, обет
во славе воскресить из мертвых,
то строим Молоху мы храм,
чтоб в нем кадил грядущий хам.
(август—сентябрь 2008, Бронкс)
22
еродулы: иеродула (из греч.) – то же, что аккадское кадишту «посвященная» – титул храмовых проституток в древней Месопотамии.
23
мамлюки, или мамелюки (из араб. «то, чем владеют, раб») – тюркоязычная гвардия, в частности, охранявшая монархов в средневековом Египте.