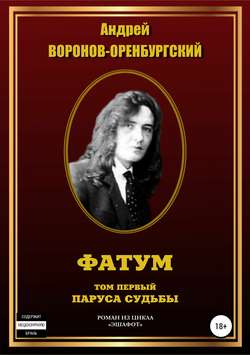Читать книгу Фатум. Том первый. Паруса судьбы - Андрей Леонардович Воронов-Оренбургский - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 3 «Северный Орёл»
Глава 1
ОглавлениеЕжели человеку дать всё, что возжелает, он непременно захочет то, чего не хотел… Его величество Александр изволили дать Нессельроде всё… и нынче иудино семя жаждет моей погибели…» − Николай Петрович, так любивший с толком посидеть над щучьей головой с чесноком, отодвинул тарелку. Не притронулся граф и к говяжьему рубцу, и к рюмке анисовой водки: руки опускались, надежда и вера таяли в нем, что восковая свеча.
Остановившись взглядом на фамильном столовом серебре, он с грустью разумел: «Я мог бы писать оды потомкам, если б мог без утайки глаголить… Господи Свят, трона от воров и мерзавцев не видно! Облепили, что вши на гаснике: плюнуть-то некуда, чтоб не попасть в чертову дюжину. Вот боль-то сердечная!»
Память откатилась волной к недавнему времени, в ушах затрещала сухим горохом барабанная дробь гатчинских плац-парадов.
Царь Павел, по мнению канцлера, умом недальний, своими выкрутасами довел страну «до края». Под ударами его шпицрутенов Великая Россия обернулась каторгой. Мздоимцы торжествовали, а достойные были во изгоне…
«Суворов − бог войны − рубил правду-матку: «Пудра −не порох, букля − не пушка, коса − не тесак, а я не пруссак, а природный русак». Вот и забили, как пыж в ствол, в свою же деревню; и это − генералиссимус, коему в ратных делах ни Кутузов, ни Буонапарт − не чета!.. Что уж о других сказывать?.. Виданное ли дело?! Менее чем за пять лет царский указ девять раз сменил мундир конной гвардии! Приказал всем волосы стричь, удлинить короткое платье и, к чертовой матери, жилеты и шляпы, напоминавшие о ненавистной французской свистопляске. Господам и дамам, без исключения, велел было выпрыгивать из карет, когда им выпадала невиданная честь столкнуться с его императорским величеством, и приветствовать его в глубочайшем поклоне, не ленясь спину ломать, стоя в грязи, луже иль талом снегу».
Румянцев сокрушенно покачал головой: «Да уж…» Улицы столицы пугали своей призрачной пустотой в час августейшей прогулки. Однако и то правда, что солдатам хлеб, мясо, водку и деньги раздавать стали порасторопнее. Порка, аресты и ссылки били перво-наперво по офицерам, а для этого довольно было и тусклой пуговицы иль не в лад поднятой при марше ноги. Армия сосланных росла, что снежный ком, с пугающей быстротой. Всюду царил черный страх. И никто не ведал, что готовит день грядущий, доживет ли он до утра!
А в девять часов вечера бледнел православный народ: на улицах гремели ражие крики и звуки престранного инструмента − ровно железо с железом схлестывалось. То совершали обход нахтвахтеры − павловские демоны: рос-лые бугаи в страшных меховых шапках с угольным верхом. Они били специальными молотками в железы и дико ревели притихшим домам:
− Гасите свет!!! Свет гасите!!!
Главные улицы перекрывались рогатками − ни дать ни взять, комендантский час.
Сказывают, однажды, запуганный дурными снами и фатальным исходом, что пророчили ему карты, Павел зашел в комнаты царевича Александра, где на столе глаз его отыскал трагедию Вольтера «Брут». Тотчас же, вбежав в свои покои, он взял книгу о Петре Великом, открыл ее на странице с картинами суда над Алексеем, пыток, перенесенных наследником, и его гибели, вызвал Кутайсова и приказал передать сей отрывок старшему сыну. Имеющий уши да услышит!
Именно тогда губернатором Петербурга был ставлен Архаров − не человек, а дьявол во плоти. Он да иже с ним два приспешника: Чичерин и Чередин − в Москве на Лубянке знатно орудовали дознанием у «неверных». Гвозди с иглами каленые под ногти вбивали: правду искали, вырывая ее из безумных криков сходящих с ума жертв.
Да, так было при убиенном Павле… А что же сын его, Александр?..
Румянцев вяло протянул руку − рюмка «анисовки» ветвисто и горячо разлилась по нутру. Он прикрыл глаза, на выбритых щеках и подбородке круче обозначились порезы морщин.
Ждали от Александра, воспитанника француза-просветителя Лагарпа, многого! А по двору, как водится, уже потянулись сплетни: дескать, на белых руках сына кровь отца. В салоны то и дело долетало эхо речей то ли Беннигсена, то ли Палена, то ли Платона Зубова, которого зло ненавидели даже те, кто был обязан ему блестящей карьерой.
Шептали: якобы в ту ночь Пален решительно вошел в апартаменты Александра и разбудил его, спавшего отчего-то в сапогах и при платье… Генерал объявил, что его величество только что изволил почить в бозе от пресильнейшего апоплексического удара.
Правда, нет − цесаревич залил лицо горючими слезами, но Пален кремнисто обрубил: «Хватит! Хватит ребячества! Благополучие миллионов… зависит ныне от Вашей твердости. Ступайте смело и покажитесь гвардии!»
Александр перечить Фатуму не стал. С балкона дворца он произнес краткую речь: «Мой батюшка скончался апо-плексическим ударом. Всё при моем царствовании будет делаться по принципам и по сердцу моей любимой бабушки, императрицы Екатерины!»
Солдаты грянули ему восторженным ревом и, взломав дворцовые погреба, принялись пить за здоровье юного царя и руководителей заговора.
Сказывали и то, что радость заговорщиков, по мнению Чарторыйского, сраму не знала: была бесстыдной, вероломной, без меры и приличия.
Разыспуганная пьяным «У-рр-ра-а!», внезапно появилась чуть не в исподнем вдовая императрица. В отчаянии и яри она возопила господам офицерам: «Отныне я, и только я ваша Императрица! За мной!»
Увы, дремучий немецкий акцент испоганил дело: Марии Федоровне ни один не подчинился, а Пален с Беннигсеном, не без нажима и скрытого льда, принудили ее вернуться в покои.
Через шесть месяцев после убийства отца Александр торжественно въехал для коронации в Москву. Церемония протекала с привычной пышностью, но с необычайным ликованием. Двадцатичетырехлетний самодержец был высок, статен, красив. Его супруга − изящна и очаровательна, как Психея.
Плескался колокольный звон, народ бросался на колени, целовал сапоги царские и бабки благородного жеребца.
Французская полиция перехватила в Вене эпистолу госпожи Нуасвиль, оставшейся в России эмигрантки, адресованную камергеру австрийского императора графу О’Доннеллу. В этом извещении она указывала: «Я видела, как этот князь шел по собору, ведомый убийцами своего деда, окруженный убийцами своего отца и сопровождаемый собственными убийцами».
Спустя невеликое время руководители заговора: Беннигсен, Панин, Пален и прочие − получили приказ покинуть навечно столицу и держаться в отдалении от Государя. А Платон Зубов, умывшись вторично страхом, вернувшись из за-граничных вояжей, преставился в вынужденной отставке.
Лишь Беннигсену волею судьбы позже посчастливилось поступить на службу вновь. Отвагой и кровью он смыл свой позор в сшибках с наполеоновскими ордами.
Начиная с июля 1801 года, как повелось, дважды в неделю после обеда к его величеству слетались молодые друзья: польский князь Адам Чарторыйский, весьма способный и оглядчивый, князь Кочубей, знатный законник и завидный администратор, граф Новосильцев, столь же честолюбивый и чопорный, сколь и образованный, граф Павел Строганов, который Европу знавал куда лучше, чем свое Отечество.
Всепонимающий Александр не торопился перепахивать поле и засевать его семенами свежих идей. Вялый и мечтательный, не терпящий петровских «штыковых атак», он более улыбался и целомудренно молчал.
И все же пришла долгожданная оттепель! Свет руко-плескал отмене драконовских указов Павла.
Сердце Николая Петровича в те дни тоже билось надеждой и радостью: на службу вернули тысячи блестящих офицеров и государственных умов, а журавли виселиц убрали с пустынных площадей; зубы цензуры притупились и хватка ее стала не столь костоломной и гибельной. На улицах вновь появились и круглые шляпы, и длинные волосы, и яркие жилеты. К священникам, дьяконам, дворянам и сословным горожанам телесные наказания боле не применялись.
Были немедля возвращены из индусского похода дон-ские казаки, и на дикую павловскую авантюру в Турке-стане наложен могильный крест. Английская эскадра, уже пробороздившая пролив Эресуны, сделала оверштаг57 назад. Тогда же проклюнулось желание союза с Лондоном. Пятого июня 1801 года в Северной Пальмире был подписан договор между двумя великими морскими державами. Дипломатические отношения с Австрией, взорванные Павлом, восстановлены.
О! Это был долгожданный взмах крыл молодого государя: восхищенный такой добродетелью, русский народ целовал следы, оставляемые батюшкой-царем.
Ставил свечи и граф, свято веруя в разум и быстровзлетное процветание Державы. Увы, высокого парения не по-лучилось. Александр не был богат ни дерзновенной отвагою, ни кипучей деятельностью своего предка − Великого Петра.
Канцлеру с юности претили прожигатели жизни, та толстокожая порода вельмож, которая свою булыжную душу драпировала флером пикантностей, а пошлые остроты выдавала за тонкий, прозрачный ум. Такие любили позубо-скалить, перепесочить кости тем, чьи имена и титулы взросли не на диких деньгах, а на славных делах во благо России.
Боялся этого окружения граф, боялся и презирал. Страшился узреть его вокруг трона… И, видно, не зря ныла душа: случилось именно то, что приходило к Румянцеву в невеселых думах.
Николай Петрович накренил нос графина к граненой рюмке. Гадко было на сердце. Он досадливо сморщил лицо: полгода после отъезда князя Осоргина сделались для него пыткой. «Только б поспел, сокол!.. Примет фрегат, тогда хоть на душе будет покойней…» Румянцев хрипло вздохнул, еще и еще. В груди − будто камень застрял: нет покою, хоть в петлю!
Лакеи, что стадо на пастуха, глазели на него изумленно: не могли припомнить такой мрачливой рассеянности.
Да и сегодняшний день, что скрывать, подгорел с самого утра. Отправляясь на службу, Николай Петрович вышел из дворца и… оступился на предпоследней ступени, упал, подвернул ногу, замочив выше щиколотки чулок и зашибив правое колено.
Перепуганные слуги слетелись стаей галдящих галок: подняли, отряхнули, возвратили в комнаты, а кучер так и прокуковал до обеда у подъезда, хлопая глазами да ковыряя в носу: «Поедет − не поедет его сиятельство?.. А вдруг, как да… тады… Тпррр-у-у, залетные, обождем от греха!»
В тот день канцлер так и не выбрался, отослав курьера доложить: «Так, мол, и так, приключилась оказия…»
Да, если по совести, то последние два года его сиятельство в министерство иностранных дел отправлялся, как на каторгу. Удрученный войною с любезной Францией, которую он страстно почитал и с которой ему не удалось договориться о мире, Румянцев опустил руки. Его личное самолюбие крепко страдало. Лед опалы становился с каждым месяцем тверже − не разобьешь. Молодой Государь, на которого молился умудренный граф, более не мог, да и не хотел оказывать ему прежнее покровительство… Как ни бросай карту, а золотое время кончилось. А при дворе уж не флейтой,− трубным иерихоном гремело обвинение его в пристрастии к корсиканскому Голиафу.
До какого рвения тут? День теперь ночью казался. А ведь, бывалоче, до глубокой ночи в кабинете простаивал за бюро, а то и вовсе до петухов перо маял, при этом не ленясь подвергать беспрестанным испытаниям ревность своих подчиненных.
И сейчас он сидел в кресле: боль, гнев и обида, в альянсе с бессилием − все к одному: «Только поспеть с по-следним замыслом, а там в отставку… Всё! Под завязку сыт, хватит! Старому псу кость кидать − лишь зубы ломать…»
Граф вдруг застонал, вцепился в волоса и, прихрамывая на распухшую ногу, доковылял до софы.
− Господи! За что?! Чего ждать? Что же отныне будет с Россией?!
Внезапно он задержал взгляд на позолоченном подлокотнике, увенчанном головой хитронырого пана.Через силу сглотнул, на миг разгоняя морщины. Лесной сатир ухмылялся ему кривогубой улыбкой Нессельроде.
− Батюшки-светы,− старик перекрестился.
Барельеф еще мгновение глядел на него торжествующе, точно желал показать, что он здесь боле не хозяин, а так, всего лишь докучливый временщик.
Николая Петровича заколотило. Быть может, впервые по-настоящему он узнал, как чувствуют себя люди, чей хлеб, не сетуя уж о шоколаде, зависит от расположения иных. Глаза сатира еще, казалось, тлели пугающей, злой усмешкой, отчего графу нестерпимо захотелось влепить деревяшке пощечину.
«Ужели проиграл?» − мысль эта была жгуче зубной боли.
Сын знаменитого фельдмаршала Румянцева-Задунай-ского поник плечами. О его батюшке говаривали: «…великий ум, необычайная твердость души, неизмеримые познания, но черствое сердце и непомерное честолюбие».
«Незавидно гладко сказано, однако,− весомо! А что скажут обо мне? Поклонник Франции и чудовищного самозванца, гениального выскочки, от коего трепетала прилизанная Европа?»
Так рассуждая, вогнал он себя в «цыганский пот». До появления этого худородного полукровки Нессельроде канц-леру и в голову-то не приходило, что возможен столь бесславный финал.
Да, верно бытует пословье: «Бойся коня сзади, козла −спереди, а жида − со всех сторон».
Граф постарался выбить из головы мысли о будущем, ожидающем его, коли придется в безвестности коротать отпущенный век. Не получилось. Память с неумолимостью рока давила былым.
Он привалился к парчовой турецкой «думке». Вспомнился отъезд в армию в седьмом году, когда он передал его величеству записку с объяснением, что совершенно не уповает ни на какое решительное содейство России со стороны Англии и Австрии в продолжении сей войны… и что, каким бы отъявленным супостатом ни был Буонапарт, он никогда не сможет причинить русским столько зла, сколько причинит любимая Императором Англия своей лицемерною дружбой. В то время Александр с благоволением и даже признательностью изволил принять эту записку.
«Что ж, это было тогда, а ныне… Бог мой! А вдруг и тогда сие уже была маска двуликого Януса? − старик Румянцев тронул кончиками пальцев вытянутую больную ногу.− Хм, каска спасает голову, а маска − всего человека. Она позволяет не только скрыть лик, но и внимательней разглядеть чужой».
Спина затекла, и, хотя колено требовало покоя, канцлер дошел до окна. На улице звенел и журчал апрель. Противного берега Невы видно не было. Над свинцовой рябью курился молочный туман, из него появлялись призрачные шлюпы и парусники, не смолкая тренькали рынды58, оповещая судоходов: «Будь осторожен! Не зевай!»
«Господи! Мир-то каков вокруг: благодать и покой. А такие шторма, такая муть в глубине!» − он пуще прижался к стеклу: что там на набережной? Но так ничего и не углядел. Колено прострелила чертова боль. Николай Петрович тихо осел на оттоманку, сцепив зубы; однако подумал не о набрякшем колене… По его расчетам, Алексей Осоргин уже простился с берегом.
Он трижды перекрестился: «Смилуйся, судьба,− отведи беду!»
57
Оверштаг − вид крутого поворота корабля.
58
Рында − особый звон в колокол на корабле, раздающийся в полдень.