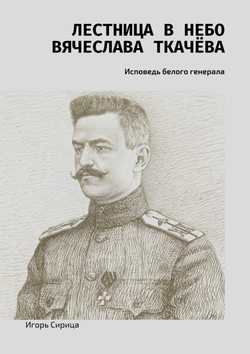Читать книгу Лестница в небо Вячеслава Ткачёва. Исповедь белого генерала - Игорь Сирица - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 8.
Лида, Двинск: 1914
ОглавлениеВ соответствии с секретным предписанием Штаба Киевского военного округа №498/112 от 7 февраля 1914 г. Ткачёву было предписано прибыть в г. Лиду224 в формирующийся авиационный отряд при 4-й авиационной роте с назначением на должность начальника ХХ корпусного авиаотряда, куда он и отправился 17 февраля. В тот же день Ткачёв явился в 9-ю воздухоплавательную роту, при которой формировалась 4-я авиационная рота, а 10 марта, согласно приказу №79 по 9-й воздухоплавательной роте, он был откомандирован в 4-ю авиароту начальником ХХ корпусного авиаотряда225.
Поезд остановился, и с платформы донесся голос кондуктора: «Ли-и-да!»
Невзрачный извозчик довез меня до гостиницы на главной улице этого маленького городка с милым названием. Невдалеке от гостиницы высилось каменное двухэтажное здание довольно причудливой архитектуры, в котором и разместилась канцелярия формируемой 4-й авиационной роты. Это здание да мостовая из острого булыжника на главной улице были, пожалуй, единственными достопримечательностями Лиды.
В первых числах марта 1914 года в обширной комнате, рядом с кабинетом командира, собрались все офицеры-летчики, съехавшиеся из школ и других авиационных рот. Неожиданные встречи, знакомства, оживленные разговоры…
Вот дверь кабинета открылась, и появился командир роты, крупный, с легкой проседью, добродушно улыбающийся полковник Критский. За ним следовал его помощник – стройный, подтянутый, румянощекий капитан Рещиков. Разговоры прекратились, все вытянулись в струнку.
Поздоровавшись с нами, Критский объявил:
– Господа, я получил из Главного управления Генерального штаба приказ о формировании нашей 4-й авиационной роты. В приказе указывается распределение офицеров по отрядам. Сейчас мой помощник познакомит вас с офицерским составом отрядов.
Капитан развернул лист бумаги и сочным, приятным баском, зачитал нам приказ226.
Все отряды, кроме ХХ, были недоукомплектованы. Это обстоятельство меня крайне удивило. Ведь в прошлом году при формировании 3-й авиационной роты у нас в отрядах было до девяти сверхштатных летчиков. Более того, некоторые офицеры 4-го выпуска Севастопольской школы (в начале 1913 года) были откомандированы (за неимением вакансий в авиации) в свои воинские части […] Да еще офицеры-летчики, выпущенные из школ в течение 1913 года! И, тем не менее, в 4-й авиационной роте имел место недобор летчиков! По-видимому, такое положение объяснялось «блестящей» предусмотрительностью и распорядительностью наших «верхов» авиации: школы не были пополнены необходимым числом учеников-пилотов. Разумеется, мне, как начальнику ХХ корпусного авиационного отряда, было приятно сознавать, что мой отряд укомплектован полностью, но я не привык думать только о себе. […]
– Сейчас подадут грузовик, – объявил капитан Рещиков, – вы, господа, отправитесь на аэродром. Там вас встретит командир роты.
Мы выехали за город. Когда проезжали мимо эллингов 9-й воздухоплавательной роты, кто-то из летчиков воскликнул:
– Да он никак пустой?
Присмотревшись, мы заметили внутри эллинга небольшой дирижабль.
– Вот уж эти «пузырники» -очковтиратели, – сказал штабс-капитан Богдашевский, – понастроили дорогостоящие эллинги в Ковно, Брест-Литовске, Белостоке, Лиде, Ровно, Бердичеве и даже на Дальнем Востоке, а эллинги эти в большинстве пустуют. Зато под Петербургом сосредоточили все свои пузыри и пускают высочайшему начальству пыль в глаза во время Красносельского лагерного сбора…
Впереди показался аэродром. Еще издали мы любовались стройным рядом новеньких ангаров, но когда грузовик подъехал к ним, все разинули рты: огромное поле аэродрома было покрыто глыбами свежей пахоты…
Командир приказал открыть ворота ангаров. Там стояли ящики с аэропланами. Мотористы вытащили несколько фюзеляжей «Ньюпоров», и мы с любопытством стали их рассматривать. Тросы крепления крыльев и моторы были жирно помазаны тавотом, и все же кое-где виднелась ржавчина. Как позже выяснилось, все эти аэропланы составляли остаток тех партий, которые пошли на формирование авиационных отрядов еще в 1913 году. Ну а остаток простоял где-то больше года в ящиках под открытым небом. […] Через несколько дней аэропланы были распределены по отрядам, и в ангарах закипела работа… Вместе со старшим мотористом я приводил в порядок свой аэроплан. Нам помогали солдаты-слесаря, отобранные мной из отрядной команды. Моему примеру последовали и другие офицеры-летчики отряда. В ангарах то и дело слышались их ворчания и ругательства по поводу плохого состояния аэропланов. […] Полковник Критский не отличался расторопностью и, как говорится, был тяжел на подъем. По-видимому, его не особенно волновало то обстоятельство, что в роте не имелось ни единой запасной части к аэропланам и моторам. […]
Возня с проржавленными аэропланами, грубо вспаханное поле перед ангарами задерживали производство полетов. Это нервировало, возмущало летчиков, и их возмущение докатилось, наконец, до Вильно227, где находился штаб округа. Оттуда в Лиду приехал генерал Бойов – помощник грозного генерала Рененкампфа. Приезд столь высокого гостя немного ускорил приведение в порядок нашего аэродрома, но техническая часть, по-видимому, не особенно интересовала наше командование. Не волновали генерала Бойова и вопросы нашей подготовки: что и как мы будем делать, на что мы способны? Бойов, как и многие другие представители высокого начальства не знал и не понимал авиации.
В апреле 1914 года на Лидском аэродроме началась кипучая работа. Эта полетная горячка напомнила мне весну 1913 года на Сырецком аэродроме под Киевом. Большинство летчиков, за исключением троих, была вчерашними учениками, образно говоря, «детьми авиации», делающими свои первые самостоятельные шаги. У меня же за плечами был почти трехлетний пилотский стаж. Это возлагало на меня большую ответственность и серьезные обязанности не только перед этими «детьми-пилотами», но и перед всей русской авиацией. Мы все, и особенно пилоты с большим стажем, должны были способствовать ее развитию и служить примером для других, менее опытных.
Вскоре на нашем аэродроме стали выявляться наиболее смелые и талантливые молодые летчики. Они стали делать правильное и уверенное маневрирование в воздухе, виражи, планирование по прямой и по спирали. […] Еще более ответственной для меня, проведшего целый полетный период 1913 года в образцовом отряде русской военной авиации, в ХI корпусном (нестеровском), была теперь роль начальника. […]
Как-то я задумал совершить однодневный круговой перелет по маршруту: Лида-Вильно-Ковно-Гродно-Лида. Вылетев рано утром, я меньше чем через час был уже над Вильно. В этом городе я никогда раньше не бывал и поэтому не знал, каков рельеф местности вокруг него. Сверху мне показался удобным для посадки огромный двор, окруженный казармами, и я решил спуститься на это облюбованное место. Когда же мой аэроплан коснулся земли, я понял, что совершил ошибку. Двор напоминал колодец, вылететь из которого было невозможно. Если бы даже мне удалось перескочить через казармы, то я неизбежно врезался бы в гору…
Вокруг аэроплана собралась толпа офицеров и солдат. Все интересовались, куда я лечу. Я стал расспрашивать, где имеется хотя бы небольшая ровная площадка на открытом месте.
– Поблизости нигде нет! – ответили мне.
Один из офицеров, подумав, вспомнил:
– Пожалуй, в районе наших лагерей найдется такая площадка. Правда, отсюда это не менее трех верст. Есть еще беговое поле, но оно много дальше.
«Нечего сказать, утешили!» – удрученно подумал я, чувствуя, что мой однодневный круговой полет может сорваться. Но иного выхода не было, и мне пришлось ехать на разведку в лагерь, а потом катить туда за хвост при помощи солдат и мой «Ньюпор».
«Куда же теперь лететь? – размышлял я. – На Ковно228? Тогда мне не успеть до вечера добраться до своего аэродрома. Очевидно, придется возвращаться…»
Я попросил выставить охрану к аэроплану, а сам отправился пообедать и осмотреть древнюю столицу некогда могущественного литовского князя Гейдимина229.
Уже под вечер я вернулся к аэроплану. Дул сильный ветер, к тому же, для моей узкой взлетной площадки, – боковой. «Не стоит рисковать, да и некуда теперь торопиться, – подумал я, – немного подожду, авось утихнет». […] Ветер не утихал, а мне уже надо было лететь. […] Я поднялся в воздух и менее чем через час прилетел на свой аэродром.
Вскоре мне пришлось отказаться от подобных самодеятельных перелетов, так как началось нечто более интересное и ответственное: Всероссийский аэроклуб объявил конкурсный перелет Петербург-Севастополь за 24 часа. У меня, естественно, явилось горячее желание участвовать в этом конкурсе. Но для того, чтобы выполнить условия конкурса, то есть уложиться строго в 24 часа, надо было использовать при вылете июньские белые ночи под Петербургом, а закончить перелет в полнолунье на юге. По моим подсчетам, совершить этот перелет на «Ньюпоре» было невозможно.
«А что если мне съездить в Петербург и попросить у Немченко „Моран“? – подумал я. – Кстати, решу уже сам, без Критского, и вопрос о пополнении отряда запасными частями хотя бы к аэропланам».
В начале мая я отправился в Петербург. Явившись в Главное [военно-] техническое управление, я обрисовал полковнику Немченко крайне плачевное состояние технической части 4-й авиационной роты и объяснил, что отсутствие запасных частей не позволяет моему отряду выполнять большие работы, предусмотренные планом. Доложил ему также, что желаю участвовать в конкурсном перелете Петербург-Севастополь и попросил дать мне «Моран».
Немченко грубо ответил:
– Никаких «Моранов» у меня нет!
– А строящиеся у «Дукса»230? – напомнил я.
– Дай вам «Моран», а вы его разобьете, – насмешливо бросил полковник.
Я никак не ожидал услышать столь оскорбительную реплику от главы технического снабжения авиации, которому был известен мой полетный стаж.
– Тогда дайте хоть запасные части для аэропланов! – сказал я, с трудом сдерживая возмущение.
– У меня нет запасных частей! – заявил Немченко.
Таков был ответ лица, ответственного за снабжение русской военной авиации. […] Уходя ни с чем из Главного [военно-] технического управления, я подумал: «Если я перешагнул через голову Критского и обратился с просьбой о снабжении отряда запасными частями к полковнику Немченко, то не перешагнуть ли мне через голову самого главы технического снабжения и не отправиться ли прямо на завод?».
Директор Русско-балтийского завода231 принял меня очень любезно и внимательно. Я заказал ему некоторые части к шасси и фюзеляжу и пару крыльев для «Ньюпора».
Может возникнуть вопрос: как это директор завода мог принять заказ непосредственно от меня, начальника отряда? Конечно, здесь сыграло роль не сентиментальное желание выручить из плачевного технического состояния мой отряд и не патриотический порыв директора. Все объяснялось куда проще: «Ньюпоры» завод больше не строил и был занят подготовкой материала для предстоящей постройки десяти кораблей «Илья Муромец», а мой заказ давал возможность сплавить оставшиеся ненужные материалы и полуфабрикаты. Разумеется, я очень заинтересовался нашей национальной гордостью – первым в мире четырехмоторным воздушным кораблем «Илья Муромец» – и приехал на аэродром, чтобы собственными глазами увидеть это «чудо». Должен признаться, что он произвел на меня потрясающее впечатление. В нем как бы ощущалось дерзание могучего русского духа. […]
Вскоре после моей поездки в Петербург я отправился в Ригу, чтобы представиться своему предполагаемому, в случае войны, начальнику. Командир ХХ корпуса – пожилой генерал – встретил меня приветливо, а когда узнал о цели моего посещения, то пришел в восторг.
– Пребывание отряда в Петровском лагере, ваше превосходительство, – объяснил я ему, – позволит познакомиться офицерам и солдатам с авиацией, а нам, летчикам, даст практику наблюдения в полете с разной высоты войска во всех их положениях: в колоннах, в цепи, в окопах и т. д. Таким образом, наши летчики приобретут опыт, и не будут ошибаться в дальнейшем при производстве воздушной разведки, и на маневрах вы, ваше превосходительство, будете иметь точные сведения.
– Отлично, отлично! – удовлетворенно твердил генерал. […]
***
В начале июня ХХ отряду надлежало перебазироваться в Двинск232 для участия в работе с артиллерией. […] Условия работы с артиллерией под Двинском оказались куда тяжелее, чем в Киеве, так как единственная площадка для спуска аэропланов была значительно удалена от полигона, покрытого сплошными песчаными дюнами. А связь аэроплана с батареей оставалась по-прежнему примитивной: сигнализация флажками. И все же интерес к делу и добросовестность летчиков преодолели эти препятствия, и работа по корректировке артиллерийской стрельбы велась вполне успешно. Должен, однако, упомянуть об одном очень неприятном инциденте.
В качестве характеристики пагубного влияния пестрого летного состава [авиационных] единиц (состоящих из представителей разных родов войск, офицеры которых нередко враждовали), привожу случай с поручиком Стрельниковым.
Он подал мне рапорт с просьбой заменить его «Ньюпор», который плохо набирал высоту. Стрельников отлично знал, что заменить его аэроплан нечем.
Вернуть этот беспредметный рапорт – значит обидеть его автора. И я, сделав надпись – «учитывая вес пилота, нахожу, что такая замена была бы действительно желательной», – отправил рапорт командиру роты в Лиду. Стрельников прочел мою надпись, невероятно обиделся, и на другой день утром, когда я здоровался со всеми офицерами отряда, не подал мне руки.
Я пригласил к себе всех офицеров (кроме Стрельникова) и, объяснив им, что поступок Стрельникова – это оскорбление начальника, сказал:
– Если поступить по закону и подать сейчас на него рапорт, то он будет предан военному суду, и вы сами понимаете, чем это для него пахнет. Но я не хочу, чтобы он так пострадал за свою «детскую наивность». Между тем, оскорбление должно быть «смыто», и я, не как начальник, а как офицер, вызываю его на дуэль и прошу кого-либо из офицеров быть моим секундантом.
Офицеры ушли от меня и долго совещались между собой. Потом вернулись и стали упрашивать меня изменить решение.
– Как старый опытный летчик, как начальник авиационного отряда, вы не смеете рисковать из-за глупости Стрельникова, – говорили они. – После этого инцидента у вас, конечно, не может быть никакого общения со Стрельниковым, поэтому он должен быть немедленно удален из отряда. Просите об этом командира роты.
Я написал командиру роты секретный рапорт примерно следующего содержания: «В силу сложившихся обстоятельств дальнейшее пребывание в отряде поручика Стрельникова недопустимо, почему прошу вашего распоряжения о немедленном (в 24 часа) удалении его из отряда. Если эта просьба по каким-либо вашим соображениям не может быть удовлетворена, прошу об удалении меня с должности начальника отряда».
Мой рапорт был отправлен с офицером, уехавшим в Лиду вечерним курьерским поездом. На следующий день была получена телеграмма командира роты о немедленном откомандировании поручика Стрельникова в Лиду в распоряжение начальника VI корпусного авиационного отряда.
Однажды во время объезда мишеней начальник полигона сказал мне:
– Мы должны благодарить немцев, что они дали нам возможность провести эти последние наши учебные стрельбы.
Ошеломленный этой фразой, я невольно подумал: «Неужели и впрямь война уже на носу?! Если об этом так уверенно говорят здесь, в провинции, то в Петербурге известно куда больше». […]
И вот, наконец, наступил злосчастный день 28 июня 1914 г., когда произошло так называемое «Сараевское действо». Сербский студент Принцип убил в г. Сараево австрийского престолонаследника Франца-Фердинанда, что и послужило толчком к началу страшной катастрофы в Европе – к Первой мировой войне. Тотчас все воинские части, находящиеся в лагерях, получили приказ: «Все по своим штаб-квартирам!»
ХХ корпусный авиационный отряд покинул Двинск и вернулся в Лиду233.
224
Ныне – город в Республике Беларусь.
225
Послужной список В. М. Ткачёва / РГВИА. Ф. 403. Оп. 1. Д. 81077. Л. 4.
226
В состав ХХ корпусного авиаотряда вошли: начальник, военный летчик подъесаул В. М. Ткачёв и военные летчики – поручики И. С. Стрельников, Н. Н. Головатенко, П. Е. Афонский и С. И. Пушкарев (Примеч. В. М. Ткачёва)
227
Ныне Вильнюс – столица Литовской Республики.
228
Ныне – Каунас, город в Литовской Республике.
229
Правильно – Гедимин.
230
«Дукс» (Dux) – императорский самолетостроительный завод в Москве (1893—1917), основатель и владелец завода инженер Ю. А. Меллер.
231
Имеется в виду аэропланный отдел Русско-Балтийский вагонного завода – с 1912 г. в Петербурге приступил к строительству одномоторных аэропланов; с 1913 г. создавал многомоторные аэропланы, в том числе «Илья Муромец» авиаконструктора И. И. Сикорского.
232
Ныне – Даугавпилс, город в Латвийской Республике.
233
Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 80. Л. 99—105, 108—111.