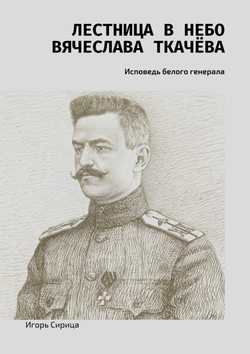Читать книгу Лестница в небо Вячеслава Ткачёва. Исповедь белого генерала - Игорь Сирица - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 6.
Киев: 1913
ОглавлениеСогласно разрешению Главного управления Генерального Штаба, сообщенного начальнику Штаба Кавказского военного округа от 13 января 1913 г. №3093, с разрешения Военного министра, как окончивший курс Офицерской школы авиации, Ткачёв был прикомандирован к 7-й воздухоплавательной роте сроком на 2 года (приказ №7 от 5 января 1913 г.). Прибыл и зачислен в списки прикомандированных к 7-й воздухоплавательной роте 15 января 1913 года156.
Первого января 1913 года я распрощался с Севастополем и выехал в Киев. Покинув на крайней южной точке Крыма лазурное небо, темно-синее море и теплое ласкающее солнце, я попал в заснеженный город. Здесь тоже сверкало солнце, но оно не согревало не привыкших еще к зимнему холоду моих лица и рук, зато красиво искрилось в запорошенных ветвях тополей Бибиковского бульвара.
Одноконный извозчик, спустившись по Фундуклеевской улице на Крещатик и проехав немного по главной улице Киева, свернул на Николаевскую и остановился у гостиницы «Континенталь».
Не успел я еще расплатиться с извозчиком, как появился расторопный помощник швейцара гостиницы. Он окинул меня быстрым взглядом и задержал глаза на моих погонах, где были изображены черные орлы – значки военного летчика. По-видимому, это ему уже что-то говорило. Сняв с извозчика мой чемодан, он услужливо произнес:
– Ваше сиятельство, пожалуйте!
Я устроился в небольшом номере, немного отдохнул с дороги, затем спустился в ресторан. Это был продолговатый зал, стены и потолок которого были расписаны панно. По покрывшим пол коврам кельнеры развозили посетителям на столиках-колясках закуски, вина и различные кушанья. Меня удивила гробовая тишина, царившая в ресторане. Время от времени ее нарушали мелодичные звуки струнного квинтета, занимавшего отдельный угол.
После обеда я вышел на Крещатик. Уже вечерело, и на улице сияли электрические огни. Невдалеке от ресторана мне встретился молодой худощавый офицер невысокого роста. На его серебряных погонах ярко выделялись черные орлы. Откозыряв друг другу, мы познакомились. Это был подпоручик Васильев, окончивший Севастопольскую школу летом 1912 года и попавший во вновь сформированный в Киеве авиационный отряд при 7-й воздухоплавательной роте. Он рассказал мне, где находится начальство, которому мне надо представиться, и как туда проехать157.
В первых числах января 1913 года просторную, казарменного типа канцелярию 7-й воздухоплавательной роты, расположенную близ Киево-Печерской лавры, заполнили офицеры-летчики, окончившие Севастопольскую военно-авиационную школу, и ждали командира. Здесь были офицеры пехоты, артиллерии, кавалерии, саперных войск и казачьей артиллерии.
За дверью послышались шаги и слабый звон шпор.
Вошел плотный, выше среднего роста, с густой проседью в усах и в голове полковник Соловьев.
Офицеры вытянулись. И в порядке старшинства начали представляться. […] По окончании представления полковник окинул всех приветливым добродушным взглядом и сказал:
– Очень рад, что в мою роту попали такие бравые офицеры, но я вас должен огорчить. Ваше школьное начальство, господа, слишком поторопилось, ведь авиационной роты еще нет, нет даже приказа из Петербурга о ее формировании, и я не знаю, что мне с вами теперь делать. Пока что, вы будете числиться прикомандированными к нашей 7-й воздухоплавательной роте. Как-нибудь провезу вас на аэродром и покажу ваше будущее летное имущество.
Спустя некоторое время все эти офицеры, жаждавшие деятельности, работы над созданием чего-то еще совершенно нового, боевой авиационной единицы, приехали на ротном грузовике на Сырец, на стрельбищное поле (восточнее Святошина), где в новых деревянных ангарах стояли огромные, высокие, с разобранными аэропланами ящики и плоские – с запасными частями.
Командир роты приказал открыть по одному ящику и… у летчиков разгорелись глаза: новенькие аэропланы с новенькими моторами, полные ящики запасных частей к аэропланам.
– Да, господа, таких аэропланов мы на Каче не видели!158
Больше двух месяцев тянулось нудное для всех нас ожидание приказа из Петербурга. Все это время мы были предоставлены сами себе. Впрочем, мне не было скучно: с большим интересом я знакомился со всеми историческими памятниками древнейшего города старой Руси. Немало времени потратил и на подыскивание квартиры, цены на которые были не ниже столичных (в центральной части города месячная оплата комнаты стоила 30—50 рублей). А вечерами я большею частью проводил в театрах. Шантаны были не по карману (так как денежными благами военных летчиков мы тогда еще не пользовались), к тому же они и не прельщали меня. Кинематографы тоже не представляли особого интереса. Недаром их предприимчивые владельцы старались завлекать публику рассказчиками, среди которых отличался талантливый Хенкин. В оперном театре был хороший состав артистов, а драматический мало чем уступал петербургской Александринке. Вот там я и «пропадал»159.
1 марта 1913 года был утвержден новый «Общий план организации воздухоплавания и авиации», разработанный […] Главным управлением Генерального штаба, а 4 апреля 1913 года Военный совет утвердил предложения «Об упразднении 7-й и 8-й воздухоплавательных рот и о сформировании трех авиационных [рот]: 1-й в Петербурге, 2-й в Севастополе и 3-й в Киеве, и с конца апреля было приступлено к их формированию.
Все летчики с нетерпением ждали, когда же, наконец, будет окончено распределение по отрядам авиационного имущества, и тогда каждый из них получит в свое распоряжение аэроплан.
По приказу из Петербурга вновь сформированная 3-я авиационная рота была следующего состава: Штаб роты […], отряды: III полевой авиационный отряд […], IX корпусный авиационный отряд […], XI корпусный авиационный отряд […], XII корпусный авиационный отряд […].
В Штабе роты сосредоточились все административно-хозяйственные и технические функции, а отряды были чисто летными единицами. По штату отряда должно было бы быть: 4 офицера, 2 солдата-летчика, 6 аэропланов и 34 солдата, из которых по три на каждый аэроплан специалиста (моторист, его помощник и хозяин аппарата), а остальные для обслуги и охраны.
По решению Военного ведомства каждый офицер, уходя из своей части в авиационную школу, должен был брать с собой двух солдат. Они в школе изучали летный материал – это и были будущие мотористы авиационных отрядов. Однако не всем офицерам удавалось привозить с собой из своих частей этих будущих мотористов (так было, например, со мной). Для этих летчиков были подготовлены мотористы уже в роте из числа лучших солдат-слесарей160.
Помимо выполнения своих непосредственных летных обязанностей (2 мая 1913 г. Ткачёв был прикомандирован ко 2-му авиационному отряду 7-й воздухоплавательной роты «для производства практических занятий»), он был дополнительно «нагружен» и другой обязанностью: с 12 апреля по 16 июля и с 31 июля по 9 декабря 1913 г. он являлся заведующим «солдатской лавочкой». 23 июня 2-й авиационный отряд был переименован в XI авиационный отряд161.
Тогда же, 23 июня 1913 г. завершилось формирование 3-й авиационной роты в Киеве: с этого времени авиационная служба русской армии обрела организационную структуру (1-я авиационная рота в Петербурге была сформирована еще 27 апреля, а 2-я в Севастополе – 25 мая) и появилась возможность приступить к специальной подготовке. Она регламентировалась соответствующими нормативными документами – «Инструкцией, определяющей порядок ведения занятий и полетов на аэродромах» и «Краткими руководящими данными по пользованию аэропланами как средством разведки и связи, а также их боевому применению». Целью подготовки являлось превращение аэропланов из средства, обеспечивающего боевые действия, в средство, непосредственно ведущее такие действия162.
После расформирования 7-й воздухоплавательной роты и сформирования 3-й авиационной роты Ткачёв был 27 июня 1913 г. прикомандирован к последней, а позднее, 8 августа, XI авиационный отряд был переименован в XI корпусный авиационный отряд, в котором Ткачёв и продолжал службу163.
Однажды в ангаре XI корпусного авиационного отряда летчики и мотористы перебирали запасные части аэропланов. Здесь же находился наш начальник, штабс-капитан Самойло, – маленький, словно игрушечный офицерик, с круглым добродушным лицом и близорукими глазами, прикрытыми сильно увеличивающими стеклами пенсне.
Заслышав какой-то шум у входа в ангар, он подошел к воротам и там встретился с двумя незнакомыми офицерами.
– Разрешите представиться! – промолвил один из них.
– Пожалуйста.
Офицеры оказались военными летчиками, назначенными в отряд Самойло. Они только что прибыли и сразу же явились представиться командиру.
Пожав руки вновь прибывшим, Самойло сказал удовлетворенно:
– Ну, теперь наш отряд можно сказать, в полном комплекте.
И обратился к находившимся в ангаре:
– Господа офицеры, познакомьтесь с приехавшими гатчинцами!
Я и поручик А. Э. Мрачковский вытерли ветошью запачканные тавотом руки и направились к выходу.
Ко мне подошел сухопарый, выше среднего роста, немного сутуловатый блондин с черными орлами на серебряных погонах. Это был подпоручик Михаил Геннадьевич Передков. Мы познакомились.
Пока Передков знакомился с Мрачковским, я присмотрелся к профилю другого гатчинца, разговаривавшего с начальником отряда.
«Что-то уж больно знакомое лицо!» – подумал я. Когда же он, окончив разговор, повернулся ко мне лицом, я воскликнул обрадованно:
– Петя, Нестеров! Какими судьбами!
– По-видимому, примерно такими же, как и ты, – улыбнулся стройный, красивый, голубоглазый поручик с артиллерийскими погонами, украшенными михайловскими вензелями и черными орлами.
Мы обнялись и расцеловались
– А ведь мы не виделись почти десять лет! – сказал взволнованно Нестеров, вглядываясь в мое лицо. – Десять лет – шутка ли!
Все присутствующие офицеры и солдаты с любопытством наблюдали за нашей встречей.
– Похоже, что вы однокашники? – спросил начальник отряда.
– Мы оба нижегородские кадеты, – ответил Нестеров.
После того, как вновь прибывшие гатчинцы познакомились с материальной частью отряда, я повел Нестерова по другим ангарам. Мы осмотрели все аэродромные постройки и все содержимое в них. Я познакомил Нестерова с присутствовавшими на аэродроме начальниками и летчиками. Затем мы вышли взглянуть на летное поле.
[…] Осмотрев аэродром, мы уселись в пустой «дежурке» – небольшом деревянном домике, где размещалась и метеорологическая станция. Нестеров поинтересовался, как я попал в авиацию.
– Уж больно длинная история, – отмахнулся я.
– Нет, изволь, выкладывай все! – настоял Нестеров.
Мне пришлось познакомить его с теми сложными путями, которые привели меня, наконец, в военную авиацию.
– Значит, и ты не обошелся без помощи «высокого хвостика тетушки», – рассмеялся Нестеров. – Да, без протекции не видать бы тебе авиации, как своих ушей. Не мало, брат, и я толкался, прежде чем попал в Гатчинскую авиационную школу. Выручила моя дерзость – ведь я вломился прямо в квартиру генерала Поливанова (помощника военного министра). Как видишь, и мне помог «высокий хвостик тетушки».
Немного помолчав, он продолжил задумчиво:
– Впрочем, несмотря на этот «хвостик», я не сразу очутился в авиационной школе, а был вначале зачислен в офицерскую воздухоплавательную школу и окончил ее. Пришлось болтаться на привязных змейковых аэростатах, но самое интересное – совершать свободные полеты на шарах.
[…] Нестеров вдруг воодушевился и с большим подъемом сказал:
– Мы с тобой, Вячеслав, должны быть благодарны судьбе, что попали, хоть и с большими мытарствами, на такое новое, захватывающее дух дело, как авиация. Тут нет еще ни шаблонов, ни застывших форм. Везде и во всем надо творить. Вот этот творческий дух и должен нами теперь руководить. Ждать, когда нам кто-то и что-то подскажет, – не приходится, тем более что и подсказать-то некому. Мы должны сами непрерывно идти вперед!164
В свободное от службы время Ткачёв частенько по вечерам заглядывал в гости к супругам Нестеровым – Петру Николаевичу и Надежде Рафаиловне165. А почти полвека спустя он разыскал дочь своего друга – Маргариту Петровну Нестерову, проживавшую в Горьком166.
А помните ли Вы Киев и Вашу уютную квартиру на Печерске? Правда, Вам тогда было лишь 4—5 лет, но и в эти годы кое-что запечатляется зрительной памятью. Я тогда приходил к Вашему папе – к моему однокашнику по Нижегородскому кадетскому корпусу и сослуживцу по XI корпусному авиационному отряду. Я был одет в синюю черкеску с белым бешметом, перетянутый в талии кавказским поясом с золотым кинжалом и в белой лохматой папахе. Таким кавказцем был я один в Киеве167.
Разумеется, Маргарита Петровна помнила: «Уважаемый Вячеслав Матвеевич! Или дядя Вячик, как звали мы Вас в детстве»168. И у них завязалась переписка. Узнав о ее бедственном положении, Ткачёв стал добиваться улучшения ее жилищных условий и назначения ей пенсии по линии Министерства обороны СССР – добрался аж до Председателя Советов Министров СССР Н. С. Хрущева и первого заместителя Главнокомандующего ВВС, маршала авиации С. И. Руденко. Но об этом дальше…
Помимо супругов Нестеровых, в Киеве визитам Ткачёва была всегда рада и семья Соколовых. В конце 1950-х годов Ткачёва разыскал сослуживец по 3-й роте, но из IX корпусного авиаотряда, военный летчик В. Г. Соколов, проживавший в Ташкенте: «А помнишь, как ты пришел ко мне на Институтскую в новенькой красной черкеске, которую ты только что сшил? Мы ели блины. Ты приготовил блин, обильно полив его маслом и сметаной. В это время ты с кем-то спорил и во время спора стукнул кулаком по столу. Удар был довольно сильный, и ты зацепил край тарелки. Она подпрыгнула, перевернулась в воздухе и блин шлепнулся тебе на колени, сильно измазав тебе черкеску. С кем ты спорил и кто был у нас, кроме тебя, уже не помню. Вера Александровна169 вытерла тебе салфеткой черкеску и сокрушалась об испорченном новом костюме, а мои девчонки, давясь от хохота, выскочили из-за стола и визжали от дикого восторга. […] А помнишь, как ты и Нестеров приглашали меня переходить к вам в отряд, мотивируя это приглашение желанием иметь в отряде хоть одного положительного человека?»170. И Ткачёв вновь, с благодарностью к своему коллеге, переживал те светлые, и пока беззаботные мгновения своей молодости, иногда наполненные курьезами, благо, с юмором у В. Г. Соколова было все в порядке. В начале 1960-х годов В. Г. Соколов всячески содействовал Ткачёву в опубликовании отдельных глав из «Русского сокола» в газетах Узбекистана, а также был одним из первых читателей и строгих, но объективных критиков его рукописи «Крылья России»…
***
Авиационная школа дала нам очень мало, и теперь предстояло идти «ощупью» вперед и во всем делать «первые шаги». А эти «первые шаги» в условиях того времени были для большинства очень трудными.
Моторы были ненадежны и капризны. Сама конструкция мотора, вся масса которого вращалась, делая 1200 оборотов вокруг своей оси, прикрепленной к аэроплану, влекла за собой целый ряд недоразумений. […] Аэропланы не отличались совершенством. Малые скорости и относительно большие (к общему весу) поверхности создавали значительную чувствительность аэроплана в полете к непогоде (к «рему»171, к порывистому и сильному ветру), отсутствие при этом запаса мощности моторов влекло за собой постоянную угрозу потери скорости и следующую за ней потерю устойчивости и управляемости, а, следовательно, и катастрофу. Аэронавигационные и полетно-контрольные приборы (исключая несовершенный альтиметр и счетчик оборотов мотора) отсутствовали. Не было также связи аэроплана в полете с землей. Метеорологические условия для полета (в сильный ветер, в дождь, при облачности) были не исследованы. Неуверенность, неизведанность и неизвестность порождали у немалого числа летчиков страх перед полетом172.
Я очень любил летать в облаках (конечно, пережив первоначально жуть), и для меня не представляло особенной трудности пробивать облачность толщиной до 1000 м [етров] и даже больше, не теряя при этом курса (не имея компаса), ни поперечной устойчивости. Спускался я через облака, почти всегда планируя по спирали. И во всем этом не было никакой позы, никакой рисовки (не перед кем было и рисоваться!), я просто любил это делать, мне это доставляло удовольствие. И я не видел в этом ничего страшного. Отсюда вывод: как видно, у меня было природное чутье тоньше, чем у некоторых летчиков173.
Однако и природное чутье зачастую подводило Ткачёва, как это произошло, например, в конце 1915 г. под Ригой.
На этот раз я возвращался с разведки на высоте около 2300 м [етров]. Мой «Парасоль»174 летел над сплошными облаками. Ориентируясь по солнцу, я точно рассчитал время подхода к аэродрому, выключил мотор и стал планировать по спирали (воображая, что подо мной аэродром). Слежу по примитивному карманному альтиметру за высотой… 1000… 500… 300 метров.
«Что-то уж больно долго не видно земли!» – обеспокоенно подумал я.
И вдруг… перед крылом моего аэроплана мелькнула труба фабрики Кузнецова175, вблизи которой находился наш аэродром.
Я быстро сообразил, что пелена тумана простирается до самой земли. И, изменив направление, с трудом спустился на окраине города176.
Не раз и не два во время полетов из-за различных технических неувязок или выхода из строя двигателя аэроплана Ткачеву необходимо было принимать единственное верное решение, чтобы избежать авиакатастрофы. И он такие решения находил.
Весь май был заполнен тренировочно-аэродромными полетами (летали вблизи аэродрома, чтобы в случае каприза или отказа мотора можно было спуститься на своем поле): практиковались во взлетах, в маневрировании в воздухе и в спуске на землю. […] Маршруты аэродромных полетов постепенно расширялись (укреплялась вера в мотор), и аэропланы стали летать и над центром Киева.
[…] Была прекрасная погода, мотор работал отлично. Все это меня окрылило, и я на высоте немного менее тысячи метров начал описывать кренделя над Крещатиком и над организованной в том году в Киеве Всероссийской выставкой.
Делаю несколько кругов крутым виражом – все хорошо. Я резко опрокидываю аэроплан на правое крыло и… мотор останавливается.
«Что случилось? Неладно с зажиганием или с подачей бензина?»
Впрочем, мне уже было не до определения причины остановки мотора. Надо спешно решать – куда же планировать и садиться? Не на крыши же домов!
С окрестностями Киева я тогда еще не был знаком, и решение этого вопроса для меня было нелегким.
«На наш аэродром? Не дотяну, – понял я. – За Днепр? Но там сплошные пески, болота и леса…»
Крылья «Ньюпора» не давали возможности вести наблюдение вниз по вертикали. Постепенно планируя, мне пришлось делать крутые виражи (вот где и пригодилось уменье планировать по спирали!), чтобы найти открытое, незастроенное место вблизи центра города, над которым я переживал этот тяжелый и опасный кризис.
Наконец мое внимание привлекло саперное поле.
«Вот где мое спасение!» – подумал я с некоторым облегчением, но когда аэроплан стал приближаться к земле, я пришел в ужас: большая часть поля была изрыта укреплениями и стрелковыми окопами, к тому же, все поле, как я разглядел, было неровным.
«Единственный выход – садиться на дорогу!» – решил я и стал поворачивать, чтобы взять нужное направление. Но у меня не хватило высоты. Пришлось сесть против ската горы. От резкой посадки (при огромном тяжелом стабилизаторе) переломились все четыре лонжерона фюзеляжа.
Я вылез из аэроплана и сразу почувствовал страшную усталость. Видимо, сказалась реакция после необычно острого напряжения нервов.
Искалеченный «Ньюпор» был доставлен на Печерск и помещен в сарае штаба роты, которая находилась неподалеку от места моей злосчастной посадки. Меня, разумеется, прежде всего, заинтересовало – в чем кроется причина моей авиационной аварии? Оказалось, что мотор остановился из-за глупой небрежности моториста. […] Почти три недели ушло на сборку фюзеляжа и на то, чтобы привести аэроплан в полетное состояние177.
Весной 1913 г. начальник XI корпусного авиаотряда штабс-капитан П. А. Самойло отбыл в Петербург для участия в перелете Петербург-Москва-Петербург в ознаменование 300-летия Дома Романовых. Исполнять его обязанности был назначен П. Н. Нестеров. В первой декаде августа он принял решение совершить групповой перелет строем.
Договорившись с кинооператором Добжанским, известного в то время кинематографа Шанцера, Нестеров вдруг нам, мне и Передкову, объявил:
– Завтра, господа, летим групповым полетом по маршруту Киев-Остер-Нежин-Киев. Со мной летит фотограф-кинематографист178, а вы оба летите с мотористами.
– Разрешите мне, Петр Николаевич, лететь одному. Мой аэроплан слабо берет высоту, и я вам буду обузой, – попросил Передков.
– Хорошо! Таким образом, мы будем иметь на все три аэроплана только одного твоего, Вячеслав, моториста Косткина. Если понадобиться, будем работать за мотористов сами.
– А что означает твое слово «групповой полет»? – заинтересовался я.
– А то, что полетим одновременно общей группой – «строем в три аэроплана», – ответил Нестеров.
– Да разве это возможно? Нигде в мире, никто таких полетов не делает, – проворчал себе под нос Передков.
– Еще не пробовали? Так вот теперь и попробуем, и пока долетим до Остера – отлично научимся, – решительно отпарировал Нестеров. – Тебе, Вячеслав, и Передкову было бы стыдно в этом сомневаться, ведь вы отлично владеете маневром и мотором в воздухе. Уверяю вас, что при подъеме с аэродрома уже над Днепром мы будем идти вместе – стройной группой.
– До Остера группу веду я, отвечая за курс и за выбор места для спуска, – продолжал Нестеров. – Левее меня идешь ты, Вячеслав, а правее – Передков. Спуск делать без колебаний, чтобы не терять времени и горючего.
На другой день (10 августа) XI корпусный авиационный отряд в составе трех аэропланов поднялся с Сырецкого аэродрома для выполнения поставленной Нестеровым групповой задачи. Ограниченный размер полетной площадки не позволил взлететь всем одновременно. Нестеров поднялся первым и сделал круг над аэродромом (как бы выжидая остальных), вторым взлетел я, потом Передков.
Предсказание Нестерова оправдались: по-видимому, под влиянием внушения Петра Николаевича и, желая поддержать престиж своей единицы179, оба сопровождающие аэропланы примкнули к ведущему еще до перелета через Днепр.
Был яркий солнечный день.
Мы летели на высоте 1200 метров.
Десна, переплетенная своими рукавами в причудливое кружево, блестела точно в серебре. А вот уже начались и бесконечные ее извилины.
Летящим в группе летчикам странно было впервые наблюдать стоящие на месте, точно подвешенные в воздухе, соседние аэропланы. Они передвигались лишь по вертикали, при изменении высоты.
На заднем сиденье нестеровского аэроплана торчало целое «сооружение». Можно было лишь удивляться, как при слабом запасе мощности мотора и малой грузоподъемности «Ньюпора» Нестеров рискнул водрузить это «сооружение» вместе с фотографом за своей спиной (ведь Передков отказался даже брать с собой моториста!). Но, как видно, все это Нестеров учел, рассчитал и, поставив себе небывалую еще задачу, приступил к ее выполнению, да еще и в присутствии двух ассистентов.
Неутомимый кинематографист направлял «жерло» этого «сооружения», то следя за течением Десны и ее окрестностям, то схватывал в объектив «висящие» позади аэропланы своих спутников.
А вот уже и Остер с постройками, разбросанными в живописном беспорядке, утопающими в зелени садов и огородов.
Нестеров быстро определяет место для спуска и стремглав, как сокол, устремляется туда, а ассистенты следуют за ним.
Через пару минут все три аэроплана стояли на зеленой травке пустыря на окраине города, окаймленного с одной стороны городскими зданиями, а с остальных – высокими стройными тополями.
Небывалое зрелище, – сразу три аэроплана в воздухе, да к тому же еще и в строю, – привлекло внимание жителей Остера, и площадь быстро наполнилась зрителями. Нестерову и его спутникам устроили овацию.
Перед вылетом для дальнейшего следования на Нежин, я подошел к Нестерову и из осторожности, учитывая большую перегруженность аэроплана начальника, сказал:
– Петя, не вынести ли нам аэропланы на открытое место, чтобы при взлете не скакать через эти высоченные тополя, словно через барьер.
– Не беспокойся, перетянем! – был ответ Нестерова.
Моторы были запущены, внимательно испробованы, и Нестеров тронулся для взлета. И можно было наблюдать, как чутко, осторожно и вместе с тем уверенно он вел аэроплан, не подрывая раньше времени и не прижимая его излишне к земле (не сделав ни одного лишнего шага на разбеге); вот он и в воздухе. Перескочить с такой нагрузкой высокие тополя было бы безумием, и Нестеров, виртуозно владеющий своей машиной, держит необходимый угол для подъема и… благополучно проходит над опасной преградой. После чего его ассистенты, следившие с душевным трепетом за этим рискованным взлетом, легко вздохнули.
И на остальном пути – от Остера до Нежина и дальше до Киева – ведущим был Нестеров, ибо, при перегруженности его аэроплана, ему было бы трудно манипулировать оборотами мотора. Но выбор места для спуска в Нежине лежал на моей обязанности, а на пути в Киев – на Передкове.
У Передкова, не долетая до Киева, закапризничал мотор, и он, выбрав удобную площадку, спустился. Его примеру последовали остальные.
Этот оригинальный, небывалый для того времени полет имел свой парадный финал в Киеве: XI корпусный авиационный отряд, во главе со своим начальником, красиво продефилировал над городом на глазах у многочисленной публики, заполнившей в то время, по случаю праздника, улицы и сады города. Как на параде подошел отряд и к аэродрому и там поочередно, снижаясь красивыми спиралями, аэропланы спустились перед своими ангарами.
– Да, господа, надо признать, что Нестеров со своим отрядом показывает нам одно «чудо» за другим: на полигоне пользовался в течение более чем двух недель и при интенсивной работе площадкой, на которую не каждый летчик рискнул бы спуститься и один раз, сейчас устраивает парад в строю, и все это без единого дефекта. Поистине, в отряде царит какой-то особый дух, внушенный его командиром, – сделал свое замечание один из присутствовавших на аэродроме офицеров-летчиков.
Радостно и сочувственно встретили благополучно возвратившийся отряд присутствовавшие на аэродроме. Были, конечно, и завистливые взгляды.
Престиж XI корпусного авиационного отряда все вырастал180.
Снятый кинооператором Добжанским 30-минутный фильм о групповом перелете был показан киевской публике в кинотеатре Шанцера на Крещатике, 38.
В 1913 году я был сфотографирован вместе с Нестеровым и Передковым, когда составлялся фильм нашего кругового группового перелета. Этот фильм хранится сейчас [в 1957 году] в Доме авиации181.
Через две недели после группового перелета, 27 августа 1913 г. над Сырецким аэродромом Нестеров совершил «мертвую петлю» на своем аэроплане «Ньюпор», впервые в мировой авиации. Этот факт был запротоколирован в 3-й авиационной роте.
Осенью, по окончании нашей летной страды, все офицеры 3-й авиационной роты собрались в лучшем киевском ресторане и в интимной, сердечной обстановке устроили чествование Петра Николаевича. Мы преподнесли ему золотой жетон с эмблемой «мертвой петли». А он в свою очередь одарил каждого из нас маленькими серебряными «Ньюпорами», хвосты которых были в виде завязанного узла «мертвой петли». Я долго носил этот «сувенир», прикрепив его на серебряном портсигаре, связанном с моим перелетом Киев-Одесса-Екатеринодар. К сожалению, дальнейшая судьба раструсила у меня все дорогие для меня памятники прошлой русской авиации.
26 ноября 1913 года Совет Киевского общества воздухоплавания принял такое решение: «Выдать П. Н. Нестерову золотую медаль Киевского общества воздухоплавания за первое в мире удачное решение, с риском для жизни, вопроса об управлении аэропланом при вертикальных кренах». Как член Совета Общества, я имел честь подписать свидетельство по этому случаю182.
***
6 сентября 1913 года XI корпусный и III полевой авиационные отряды оторвались от своего Сырецкого аэродрома для участия в двухсторонних маневрах X и XXI корпусов войск Киевского военного округа. […] Меня, как опытного артиллериста, Нестеров назначил начальником эшелона. Железнодорожники подали вагоны поздно вечером, и погрузка началась лишь 7-го рано утром. […] Точно стрекоза с прижатыми крыльями, стояли на железнодорожных платформах аэропланы нестеровского отряда. Вот уж когда оправдала себя портативность «Ньюпора»: быстрота разборки, погрузки на грузовик и перегрузка с него на железнодорожные платформы. Из-за отсутствия достаточного числа грузовиков доставка аэропланов с аэродрома шла очень медленно.
Мы вошли в железнодорожный график и на другой день прибыли в Гадяч, то есть почти в самый центр гоголевской Украины (знаменитый Миргород находился совсем рядом). […] Выгрузка эшелона заняла около часа, после чего летчики и мотористы сразу же приступили, на площадке недалеко от железнодорожной станции, к сборке и регулировке аэропланов. Из Гадяча отряду надлежало перебазироваться в Зеньков, к исходному рубежу маневра. Для перевозки имущества отряда был выделен обоз из 16 крестьянских повозок. В Зенькове воинский начальник обеспечил нас охранной командой, а 10-й уланский одесский полк поделился с отрядом лошадьми. В таких жалких условиях, при отсутствии необходимых собственных транспортных средств и при недостаточном числе солдат, пришлось работать авиационной части.
Отряд расположился в Зенькове неплохо. На окраине города нашлась открытая площадка для взлета, «Ньюпоры» поместились в специальных палатках-ангарах. Здесь же стояла палатка для караула. Неподалеку разбили палатки для части солдат и устроили коновязь, а остальные рядовые расквартировались в ближайшей хате. Офицеры поселились в одном из окраинных домов.
Уже на следующий день по прибытии в Зеньков погода начала портиться. 11 сентября полил дождь, а 12 поднялся ураган, причинивший офицерам и солдатам много хлопот. Отсюда, из Зенькова, должны были начаться полеты для сбора сведений о «противнике», то есть об армейском корпусе, которому предстояло наступать на Гадяч. И вдруг осенняя дождливая погода. О полетах нечего было и думать. Всех охватило препаршивейшее настроение. […] Вечером потянул северо-восточный ветер, и погода прояснилась. Нестеров вылетел в штаб корпуса для получения задания. Штаб корпуса двигался за войсками, и Нестеров вынужден был сесть на случайной площадке. Ни автомобиля, ни лошади ему не прислали. До штаба он добирался пешком по непролазной грязи. Мы ждали его до позднего вечера, подготовили костры, – но он вернулся только утром […] и дал мне задание вылететь на разведку.
[…] Небо еще немного хмурилось, но вскоре последние лохмотья туч уплыли прочь, и в 6 часов 40 минут я взлетел вместе с Констенчиком. […] После дождя земля была изрядно пропитана влагой, и уже от первых лучей солнца началась основательная «болтанка». Я обернулся и взглянул на наблюдателя. Его лицо было желто-зеленым, но он крепился и даже улыбнулся мне.
Маршрут длиною до 300 километров шел через Зеньков, Лютеньку, м. Сенча, села Чернухи, Макеевку, Белоцерковку, Гольцы и станцию Лохвицы. «Ничего, лишь бы не подвел мотор, – подумал я. – Задание нужно выполнить во что бы то ни стало. Ведь Петр и весь отряд надеются на меня».
И вдруг, словно в насмешку, мотор начал работать с перебоями. Можно было вернуться обратно, но мысль о том, что я вернусь ни с чем, заставила меня искать иное решение. Выбрав место для посадки, я повел аэроплан на спуск. «Ньюпор» сел на колючую стерню.
– Бегите к мотору! – крикнул я наблюдателю. – Проверьте, какой из цилиндров холоднее – там и будет замасленная свеча.
Мы быстро заменили свечу. Маленький, щуплый Констенчик с трудом запустил мотор, торопливо вскарабкался на свое место. Я дал полные обороты мотору. «Ньюпор» вырвался из липкой грязи и, набирая скорость, двинулся вперед. Толчки прекратились. Блекло-зеленая полоска стерни стала уходить вниз и назад…
Примерно через час мы подлетели к району, где должен был бы находиться «противник». Но с высоты тысячи метров мы видели только неровные пестрые полосы стерни, пашни и огородов, белесоватые ленты большаков, обсаженных деревьями, беленькие кубики хаток, утопающих в садах. […] Терять попусту время нельзя было. Бензин расходовался, а без него, чего доброго, можно было угодить в плен. Пришлось повернуть обратно…
И только теперь мне бросился в глаза медленно ползущий по белому полотну большака темный червь. Так, оказывается, выглядела в этой высоты колонна войск!
Я выключил мотор и, немного снизившись, указал наблюдателю рукой на дорогу:
– Вот он, противник! Смотрите в бинокль.
В 8 ч. 30 мин. мы обнаружили колонну «неприятеля» силою до 2-х пехотных полков с 4 батареями, двигавшуюся на Лохвицу. Середина этой колонны еще находилась на восточной окраине Чернухи. Теперь уже без труда мы рассмотрели авангард и даже головной отряд.
В 8 ч. 50 мин., не долетая 10 км до Лохвицы, мы заметили 2 взвода кавалерии. Аэроплан шел над железнодорожной веткой на Гадяч. Таким образом, были получены первые сведения о «неприятеле». Оставалось вовремя доставить их командованию.
Контрольная трубка доказывала, что бензина не хватит не только до Зенькова, но и до Гадяча. Поблизости была железнодорожная станция, и я опустился на узкую ровную полоску земли вдоль железнодорожного полотна. Невдалеке от этого места стояло двухэтажное здание, окруженное небольшими домиками. Это была земская больница. Оттуда и появились первые любопытствующие. Подошел и врач, добродушный, круглолицый толстяк – заведующий больницей. Я рассказал ему о причине вынужденной посадки и о наших нуждах.
– Поможем! – заверил врач. – Мы дадим вам первосортный бензин с удельным весом в 680 и чистейшую касторку. Что же до вашей телеграммы начальнику отряда, то ее отнесут на станцию Венеславку.
Он церемонно поклонился и сказал, улыбаясь:
– Ну, а пока суд да дело, я прошу вас, «небесные люди», удостоить нас чести и позавтракать с нами.
Завтрак был обильный и вкусный, но все же пришлось огорчить гостеприимного хозяина: мы не выпили ни одной рюмки водки.
– Ну, хоть капельку! – уговаривал нас врач.
– Перед полетом – ни капли спиртного! – объяснял я ему. – Для нашего брата-летчика это опасно.
– В таком случае предпочитаю оставаться эскулапом! – шутливо заметил врач.
Когда после завтрака мы вернулись к «Ньюпору», находившемуся под охраной санитаров больницы, туда уже были подвезены бензин и касторка. Констенчик и я принялись наполнять баки.
– Лейте больше, это не спирт! – посоветовал заведующий больницей.
– Пожалуй, хватит, – ответил я. – Нам лететь менее часа.
Мы с Констенчиком промяли свечи, опробовали мотор. Со станции принесли квитанцию на мою телеграмму Нестерову. В это время, совершенно неожиданно, на высоком хребте, в нескольких километрах от нас, появилась какая-то кавалерия. Видимо, группа всадников рассматривала в бинокль – что происходит в районе станции Венеславовка. Затем вдруг кавалеристы быстрым аллюром двинулись в нашу сторону.
– Это противник! – выкрикнул Констенчик.
– И он, кажется, решил захватить наш аэроплан в плен! – догадался я.
Быстро объяснив санитарам, как надо держать аэроплан, я влез на свое сиденье.
– Бензин! – крикнул наблюдатель и с трудом стал накручивать винт. – Контакт.
В 3 ч. 55 мин. после полудни мой «Ньюпор», на глазах приближавшейся «неприятельской» конницы, оторвался от зеленой площадки, и мы распрощались с гостеприимной больницей. В 4 ч. 23 мин. мой «Ньюпор» уже был в Зенькове.
– Где же вы пропадали? – спросил Нестеров, подбегая к нам. – Нашли неприятеля?
– Разве ты не получил мою телеграмму? – удивился я.
– Никакой телеграммы пока нет, – ответил Нестеров.
Я коротко рассказал, что случилось с нами в пути. Констенчик развернул карту и подробно доложил о местонахождении «неприятельской» колонны, о направлении ее движения и о количестве артиллерии.
– Замечательно! – воскликнул Нестеров. – Разрешите, я расцелую вас, дорогие мои!
В 4 ч. 55 мин. он вылетел на хутор Мартыновка в штаб корпуса для подробного доклада о результате разведки и для получения задания на следующий день. К месту спуска его аэроплана приехал на автомобиле начальник штаба, – так нетерпеливо ждало начальство сведений от авиации.
Вечером, вернувший из штаба корпуса, Нестеров объявил: […]
– А, знаете, господа, первая воздушная разведка нашего отряда произвела в штабе потрясающее впечатление. Оказывается, ваши сведения, Вячеслав, точно совпали с данными, полученными от кавалерии, и это привело в недоумение даже маловеров. Один из них подошел ко мне, пожал руку и поклонился: «Простите, капитан, мое неверие». Затем попросил меня объяснить, как мои летчики умудряются все рассмотреть с такой высоты? Как видите, лед недоверия сломлен. А это, господа, налагает на нас еще больше ответственности.
[…] Маневры продолжались еще три дня. Отряд интенсивно работал. Мы летали во всякое время дня и при довольно сильном ветре. Были даже случаи возвращения на аэродром […] уже в сумерках, когда спуск производился при кострах.
16 сентября было выполнено 5 разведок, причем Передков, я и Нестеров совершили по 2 вылета. И первый, и второй раз Нестеров спускался для доклада в расположении штаба. 17 сентября летали я и Передков. Нашими разведками были получены очень важные сведения о главных силах противника. Поскольку возникла необходимость спешной доставки этих сведений, мы также спускались в районе штаба корпуса.
По окончании маневра командир корпуса дал высокую оценку работе отряда, а особенно его начальника. […] Участие авиации на маневрах в 1913 г. дало много поучительного и полезного. В тот год воздушная разведка была приближена к условиям войны: потребовалось летать уже на высоте не 500 метров, как это делалось в 1911 и 1912 гг., а на 1000 метров. Вследствие этого, из-за отсутствия предварительной подготовки, некоторые летчики и наблюдатели затруднялись давать точные сведения и оценку войск противника на земле.
Поскольку в то время имелись самые скудные средства связи (донесения о воздушной разведке нередко доставлялись конными ординарцами), Нестеров, проявляя, как начальник отряда, инициативу, стремился к тому, чтобы сведения о противнике, полученные летчиками, попадали насколько это возможно быстрее в руки командования. Поначалу он летал для доклада сам, а по мере сближения противных сторон заставлял и других летчиков опускаться в районе расположения штаба183.
156
Послужной список В. М. Ткачёва / РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 81077. Л. 3—3об.
157
Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 80. Л. 50—51.
158
Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2-а. Т. 2. Л. 79—80.
159
Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 80. Л. 51.
160
Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2-а. Т. 2. Л. 80—83.
161
Послужной список В. М. Ткачёва / РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 81077. Л. 3об.
162
См.: Елисеев С. П. Создание организационной структуры авиационной службы русской армии // Военно-исторический журнал. 2006. №6. С. 17.
163
Послужной список В. М. Ткачёва / РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 81077. Л. 3об.
164
Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 80. Л. 53—56.
165
См.: Ткачёв В. М. Русский сокол (третья редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 77. Л. 191—192.
166
Ныне – Нижний Новгород.
167
Письмо В. М. Ткачёва – М. П. Нестеровой от 26 января 1961 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 50. – Л. 1—1об.
168
Письмо М. П. Нестеровой – В. М. Ткачёву от 16 марта 1962 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 50. – Л. 3.
169
Супруга В. Г. Соколова.
170
Письмо В. Г. Соколова – В. М. Ткачёву от 1 октября 1958 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 56. Л. 7—7об.; То же, от 31 марта 1962 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 57. Л. 125об.-126.
171
Рему – восходящие и нисходящие токи воздуха, образующиеся от нагревания нижних слоев воздуха от нагретой солнцем земли, а также вследствие турбулентного строения воздушных потоков и создающие болтанку, т.е. качку самолета во время полета.
172
Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 80. Л. 56.
173
Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2-а. Т. 2. Л. 90.
174
Аэроплан французской компании «Morane-Saulnier» (1913).
175
Рижская фарфоро-фаянсовая фабрика, входившая в состав «Товарищества производства фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий М. С. Кузнецова».
176
Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 80. Л. 58.
177
Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 80. Л. 59—60, 62.
178
Снятый им фильм хранится в настоящее время в Москве, в архиве (примеч. В. М. Ткачёва).
179
То есть авиаотряда.
180
Ткачёв В. М. Мои воспоминания о далеком прошлом русской авиации (первая редакция рукописи, 1960 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 2-а. Т. 2. Л. 107—111.
181
Письмо В. М. Ткачёва – И. Е. Мосолову от 21 октября 1957 г. / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 46. Л. 10об.
182
Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 80. Л. 76.
183
Ткачёв В. М. Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации. 1910—1917 гг. (вторая редакция рукописи, 1963 г.) / ГАКК. Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 80. Л. 77—83.